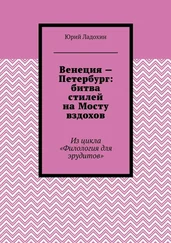Страсть порой сопряжена с терзаниями:
Нет, никогда средь пылких дней
Кипящей младости моей
Я не желал с таким мученьем
Лобзать уста младых Армид,
Иль розы пламенных ланит,
Иль перси, полные томленьем;
Нет, никогда порыв страстей
Так не терзал души моей!
[Там же, с. 30].
Пламя чувств рождает стихи:
Он пел любовь, любви послушный,
И песнь его была ясна,
Как мысли девы простодушной,
Как сон младенца, как луна…
[Там же, с. 51].
Страсть взывает к надежде:
Ты в ослепительной надежде
Блаженство темное зовешь,
Ты негу жизни узнаешь,
Ты пьешь волшебный яд желаний,
Тебя преследует мечты…
[Там же, с. 78].
Страсть выковывает сильные характеры:
Кокетка судит хладнокровно,
Татьяна любит не шутя
И предается безусловно
Любви, как малое дитя
[Там же, с. 83].
Итак, третье качество – страсть, «сердечный» мультипликатор, многократно умножающий душевные силы человека и этим, по нашему мнению, создающий солидные преимущества перед Железными Дровосеками эпохи hi-tech.
Промежуточные итоги. Парадокс, Ирония, Страсть – попробуем отыскать именно эти источники человеческой силы в опасных для взбунтовавшихся машин манускриптах.
1.3. «Запретный плод вам подавай, // А без того вам рай не рай» (парадоксы как извивы ума)
Куда делась хладнокровность Онегина, когда он увидел вчерашнюю наивную Татьяну в роли «непреступной богини роскошной, царственной Невы»? – диагноз поэта хирургически точен:
О люди! Все похожи вы
На прародительницу Эву:
Что нам дано, то не влечет;
Вас непрестанно змий зовет
К себе, к таинственному древу:
Запретный плод вам подавай,
А без того вам рай не рай
[Там же, с. 271].
Но, думается, смысл это фрагмента несколько шире морали библейского эпизода с Адамом и Евой. Будничный здравый смысл направляет наши суждения по традиционному пути, но верткий, дерзкий ум так и норовит пойти по запретному пути преодоления невидимых пограничных полос норматива. Пусть это касается нешаблонного, парадоксального взгляда на воспеваемые всеми узы мужской дружбы:
Враги его, друзья его
(Что, может быть, одно и то же)
Его честили так и сяк.
Врагов имеет в жизни всяк,
Но от друзей спаси нас, боже!
[Там же, с. 106].
Или намеренное, на грани холодного цинизма, отрицание насквозь пропитавшего романтическую литературу средневекового культа поклонения Прекрасной Даме:
Чем меньше женщину мы любим,
Тем легче нравимся мы ей,
И тем ее вернее губим
Средь обольстительных сетей
[Там же, с. 99].
Еще непривычнее во времена, когда русское дворянство в большинстве своем предпочитало изъясняться по-французски, каяться в избыточном использовании иностранных слов, а это уж смотрится чем-то сродни извивам ума «полусумасшедшего» философа Петра Чаадаева:
Описывать мое же дело:
Но панталоны, фрак, жилет ,
Всех этих слов на русском нет;
А вижу я, винюсь пред вами,
Что уж и так мой бедный слог
Пестреть гораздо меньше мог
Иноплеменными словами,
Хоть и заглядывал я встарь
В Академический словарь
[Там же, с. 25].
Подготовьтесь к перелету на два столетия вперед по шкале Времени … Оптимальное расположение слов в тексте – тоже одна из ключевых тем карманной книжечки парадоксов автора «Виллы Бель-Летра». Но ведь в этом нет особого сюрприза: роман-то – по разряду филологических. Впрочем, если уж откровенно: чем «Евгений Онегин» – не предтеча филологического романа. Скажете: совсем уж лихо завернули! Но если вдуматься, литературоведческих и культурологических рассуждений в плотной ткани творения Александра Сергеевича хватит, пожалуй, и на несколько признанных образцов фил. романа (да взять хотя бы для аналогии изумительный «Пушкинский дом» Андрея Битова).
А сколько интертекстуальных отсылок, обнажений литературных приемов, литературной игры, нежданных семантических сдвигов (иронии, другим словом), да и вообще искрящейся импровизации и литературного озорства! Но, несмотря на перечисленные аргументы, вы вправе веско возразить, что как-то с главным героем промашка вышла. Но позвольте, на далеком от словесности Е.О. свет клином не сошелся; ведь один из главных героев – «По имени Владимир Ленской, // С душою прямо геттингенской, // Красавец, в полном цвете лет, // Поклонник Канта и поэт» [Там же, с. 48].
Простите за небольшое отступление… Вернемся к книге Алана Черчесова. В юности мышление главного героя романа «Вилла Бель-Летра» обычную работу над созданием текста парадоксальным образом воспринимало как некую игру без правил, где соперником наглого шулера-юниора выступал сам Lucifer : «Когда-то, по молодости, Суворову представлялось, что писательство – не что иное, как игра с дьяволом в поддавки, чья подспудная цель – разменять почти все наличные фишки, а затем, опрокинув, как палиндром, с ног на голову правила, прочитать в них бессмыслицу, отречься от них и внезапно прикончить своею последней фигуркой фигурку соперника» [Черчесов 2007, с. 487].
Читать дальше