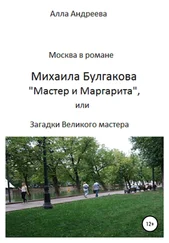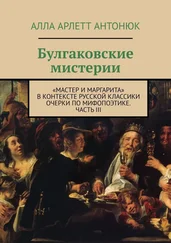В этой многослойной реминисценции Булгакова, какой является у него сцена инициатической встречи Левия Матвея, прослеживается судьба всех трех литературных героев (и бедного рыцаря Пушкина, и бедного князя Мышкина, и бедного Левия Матвея), которые все три получают высший урок судьбы (урок смирения) и сами затем совершают свой рыцарский подвиг смирения. «С той поры» и Бедный Рыцарь Пушкина, и бывший сборщик податей Левий Матвей у Булгакова – получают перерождение души. Пушкинский рыцарь, ожесточенный борьбой с иноземцами, после знаковой встречи становится верен «лику пресвятой», «матери господа Христа» (матери Сына человеческого, принявшего страдания на кресте):
С той поры, сгорев душою,
…………………………….
Проводил он целы ночи
Перед ликом пресвятой,
Устремив к ней скорбны очи,
Тихо слезы лья рекой.
А. С. Пушкин. «Жил на свете рыцарь бедный» (1829)
Левий Матвей у Булгакова, встретивший на дороге своего учителя Иешуа (и Сына человеческого, которому предстояло вынести крестные муки), тоже получает от него свой урок смирения. Послушав Иешуа, он «стал смягчаться, …наконец бросил деньги на дорогу и сказал, что пойдет … <���с Иешуа> путешествовать» (гл. 2). Эта судьбоносная встреча сделала Левия Матвея последователем учителя-философа и приближенным Иешуа, вследствие чего ему пришлось разделить трагическую участь своего учителя и скорбеть за него: «в невыносимой муке поднимал <���он> глаза в небо»; ( ср. у Пушкина: «Устремив к ней скорбны очи,/Тихо слезы лья рекой»), испытывая и переживая таким образом трагедию Сына человеческого: «Он хотел одного, чтобы Иешуа, не сделавший никому в жизни ни малейшего зла, избежал бы истязаний» (гл. 16).
Глава 2. «Ноблесс оближ»
«Литературная родословная» Мастера и Маргариты
Друзья Людмилы и Руслана!…
Позвольте познакомить вас…
А.С Пушкин «Евгений Онегин»
Мотив «утраченного жениха (невесты)»
в контексте поэтики Пушкина А. С.
«Всевышней волею Зевеса».Судьба путешественника из мифов часто обусловлена «всевышней волею». Начиная свой роман «Евгений Онегин» и знакомя читателя с новым героем, Пушкин в родословной своего героя сразу же делает отсылку к киевскому богатырю Руслану, делая его литературным «предшественником» Онегина: «Друзья Людмилы и Руслана! С героем моего романа Без предисловий, сей же час, Позвольте познакомить вас». В то же время, в результате другой отсылки своими корнями родословная Онегина (и Руслана одновременно) уходит у Пушкина еще глубже – прямо к герою греческих мифов, судьба которого действительно была обусловлена «всевышней волею Зевеса». Платон считал, что Зевс, испытывая зависть богов по отношению к человеку и разрубив мечом его душу на две половинки (чтобы люди не могли ощущать себя богами), способствовал, таким образом, вечным поискам души и ее нескончаемой тяге к путешествиям. Поэтому ремарка Пушкина о Зевсе («всевышней волею Зевеса») придает путешествию Онегина в деревню (к своим корням) некую обусловленность платоновской идеей поисков души. Но когда Пушкин говорит об Онегине как о «наследнике всех своих родных», речь не идёт у него только о родственниках и его дяде, а скорее о его литературной «родне» – и это явная отсылка нас, читателей, к далёкому предку Онегина – архетипическому путнику-герою универсального «мифа о путешествии», который (и не только образно говоря) отправлялся в путь «всевышней волею Зевеса».
Таким образом, в пушкинских строчках мы находим не только упоминание о литературной родословной Онегина («Наследник всех своих родных»), но также и о мифосоставляющей этой родословной – извечного «путника», «летящего в пыли на почтовых Всевышней волею Зевеса». Начиная легендарный путь Онегина, Пушкин не случайно декларирует именно такую «родословную», берущую начало от самого глубокого «предка» – героя мифов, а промежуточным звеном в этой «родословной» является у него его богатырь Руслан.
Ближайшая мифо-литературная родня Мастера и Маргариты у Булгакова это – тоже Руслан и Людмила. Булгаков намеренно актуализирует в истории исчезновения своего Мастера сюжет о пропавшем женихе и выносит его вслед за Пушкиным («Руслан и Людмила») в название своего романа («Мастер и Маргарита»). Так в теме «метародословной» звучит у Булгакова идея вечного повторения линейного исторического времени, которое делает историю метаисторией,
Читать дальше
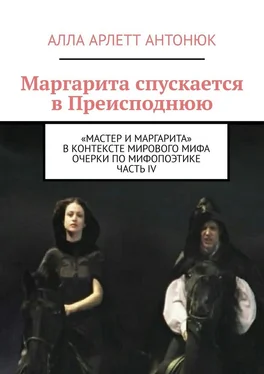

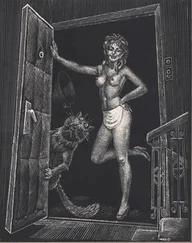
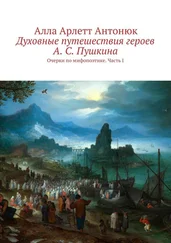


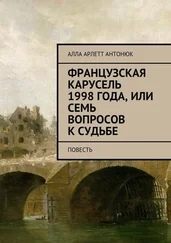

![Михаил Булгаков - Мастер и Маргарита [Посев]](/books/429262/mihail-bulgakov-master-i-margarita-posev-thumb.webp)