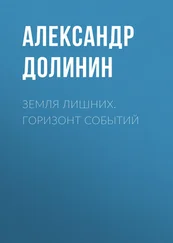Более того, в ПВА Пушкин вводит нас в свою поэтическую лабораторию, исподволь отсылая к уже опубликованным стихотворениям «кавказского цикла» («Калмычке», «Обвал», «Кавказ», «На холмах Грузии», «Делибаш», «Из Гафиза», «Монастырь на Казбеке», «Дон») 286и показывая, как обыкновенные дорожные и военные впечатления преобразуются во вторую, иначе устроенную реальность поэзии. Каждому из вышеупомянутых стихотворений цикла соответствует определенное прозаическое описание, в котором повторяются ключевые слова поэтического текста, но сопоставление двух версий всякий раз выявляет существенные различия между ними. Так, например, если в ироническом послании «Калмычке» «взор и дикая краса» любезной дикарки пленяют ум и сердце поэта и он чуть было не бросается вслед за ее кибиткой, то в ПВА «калмыцкое кокетство» «степной Цирцеи» его пугает и он торопится уехать прочь от нее; если в «Кавказе» поэт поднимается на такую заоблачную вершину, с которой ему, несмотря на идущие под ним тучи, видны обе стороны кавказского хребта – южная, грузинская («где мчится Арагва в тенистых брегах») и северная («где Терек играет в свирепом весельи»), то самая высокая точка ПВА – это Крестовый перевал и Гуд-Гора, с которой, как пишет Пушкин, открывается лишь одна сторона: «Кайшаурская долина с ее обитаемыми скалами, с ее садами, с ее светлой Арагвой, извивающейся, как серебряная лента» [VIII: 454] и т. п. Особый интерес представляет прозаическая параллель к «Обвалу» – рассказ Пушкина о запрудившем Терек обвале 1827 года, через который он якобы проехал [VIII: 453], – поскольку на самом деле никаких крупных обвалов, следы которых сохранялись бы два года спустя, в 1820‐е годы вообще не было: поэтический вымысел подкрепляется вымыслом прозаическим, загримированным под свидетельство очевидца.
Благодаря двойной фокусировке, между стихотворениями кавказского цикла и ПВА устанавливаются диалогические отношения взаимовосполнения. Как великолепно показал П. Бицилли, основной темой ПВА является «тема самой Жизни, ее субстанциональной основы, понятой так же, как у Шопенгауэра, не знающей отдыха воли, ведущей ко все новым и новым – разочарованиям» 287. Разочарования соседствуют с многочисленными memento mori . Первым «замечательным местом» своего путешествия Пушкин называет крепость Минарет, близ которой расположены «могилы нескольких тысяч умерших чумой» [VIII: 448]; заканчивается оно в зачумленном Арзруме. Кроме безвестного осетина и Грибоедова, в ПВА упоминаются и другие безвременно умершие: погибшие в сражениях русские и турецкие солдаты, генералы Сипягин и Бурцов, драгун, утонувший в кувшине с вином, жертвы горного обвала. В «Дорожных жалобах» (которые должны были, согласно пушкинскому плану 1836 года, открывать «кавказский цикл») Пушкин полушутя предсказывал себе внезапную гибель «на большой дороге», а в «Путешествии», напротив, отмечал те точки своего странствования, где подобная гибель его миновала: на берегу Терека от пули осетинского разбойника, на Крестовой горе от снежной лавины, на поле боя в перестрелке или под копытами сводного уланского полка, когда его лошадь чуть не упала при спуске в овраг, на крыше турецкой сакли от взрыва пороха, в Арзруме от чумы. Сразу же после «грибоедовского эпизода» в текст как бы невзначай вводится слово «Провидение», когда Пушкин пишет о своем решении продолжать путь, невзирая на бурю и ливень: «Я затянул ремни моей бурки, надел башлык на картуз и поручил себя Провидению» [VIII: 462]. Упоминание о Божьем промысле появляется и в сцене кавалерийской атаки: «Конница наша была впереди; мы стали спускаться в овраг; земля обрывалась и сыпалась под конскими ногами. Поминутно лошадь моя могла упасть, и тогда <���сводный> уланский полк переехал бы через меня. Однако Бог вынес» [VIII: 469]. Последнюю фразу можно отнести и ко всему путешествию в целом. Как кажется, Пушкин видел в благополучном завершении опасного пути, по контрасту с судьбой Грибоедова, некий провиденциальный знак благоволения, награду за верность своему поэтическому дару, подобно тому, как в том же 1835 году он в черновике «Вновь я посетил…» ретроспективно осмыслил свою михайловскую ссылку как провиденциальное спасение:
[Но здесь меня таинственным щитом
Святое Провиденье осенило,
Поэзия, как ангел-[утешитель], —
Спасла меня; и я воскрес душой]
[III: 996] 288.
В этой связи обращает на себя внимание предельная скупость пушкинских оценок Грибоедова как поэта. Восхищаясь последними годами бурной жизни Грибоедова и его героической смертью «посреди смелого, неровного боя», Пушкин не упоминает никаких его литературных произведений, кроме «Горе от ума», и ничего не говорит о том, что Грибоедову не удалось закончить работу над трагедией «Грузинская ночь», хотя сцены из нее он слышал в 1828 году в Петербурге. Этим «грибоедовский эпизод» резко отличается от булгаринских характеристик «незабвенного Александра Сергеевича Грибоедова» с которыми, как давно установлено, Пушкин вступил в прямую полемику 289. В воспоминаниях о Грибоедове Булгарин отмечает его перевод пролога к Фаусту, хвалит «прекрасное стихотворение на балет Руслан и Людмила» и «прелестное стихотворение „Хищники на Чегеме“» 290, но особенно выделяет «Грузинскую ночь». Если б трагедия была окончена, – пишет он, —
Читать дальше