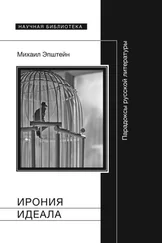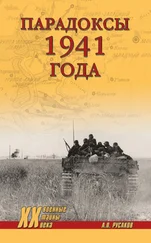Такова странная особенность творческого метода Достоевского, которую замечает, но совершенно неверно интерпретирует Бахтин. Воспетая Бахтиным самостоятельность миров героев это на самом деле до глухой абсурдности между ними разорванность: каждый выкрикивает свой монолог, но не слышит других монологов. Разорванность, которая может сравниться только с разорванностью между мирами героев Чехова или Кафки. Как сыщик, Порфирий своим приходом к Раскольникову, в общем, добивается успеха, заронив в сознании героя мысль о выгоде явки с повинной. Но как проповедник высокого, он мог бы с равным успехом произнести свою речь перед глухой стеной дома или перед каким-нибудь другим неодушевленным предметом, от которого ему не следовало бы рассчитывать даже на малейшее эхо.
Но монолог Порфирия являет собой пример странности манеры письма Достоевского с другой еще стороны – именно с той, которую Бахтин – опять же с ненужным восторгом – определил как манеру создания героев, находящихся в отношении с автором, как субъект с субъектом, но которая, на мой взгляд, уводит образы в такой подтекст, который находится вне художественности, и таким образом понижает художественную ценность произведения. В этом смысле я приводил пример из первой встречи между Раскольниковым и Порфирием, когда Раскольников, уставившись взглядом в пол, утверждает, что буквально верит в воскрешение Лазаря, и читателю неясно, лжет ли он или говорит правду (читатель решает, что он лжет, не может не лгать, но те несколько мгновении, пока решает, мешают художественному восприятию эпизода, как досадная соринка в глазу).
Эпизод с неясностью Раскольникова моментен и малозаметен, но несколько страниц монолога Порфирия совсем другое дело. Порфирий приходит к Раскольникову, когда его следствие зашло в тупик.
Он угадал убийцу, но у него нет никаких доказательств против Раскольникова, а вместо этих доказательств есть сознавшийся в преступлении Миколка. Сам Раскольников еще раньше объяснил Соне, как его, возможно, арестуют, подержат в тюрьме и выпустят, потому что все их психологические доказательства он перевернет в свою пользу Порфирий вторит ему, подтверждая, что слово пьяницы мещанина не устоит против слова бывшего студента. Приход Порфирия можно трактовать однозначно как приход хитрого следователя с конкретной утилитарной целью уговорить преступника добровольно явиться с повинной. Можно указать на то, как искусно следователь перемежает открытую лесть («я ведь вас за кого почитаю? Я вас почитаю за одного из таких, которым хоть кишки вырезай, а он будет стоять да с улыбкой смотреть на мучителей…») с угрозами и запугиваниями («А засади я вас в тюремный-то замок – ну месяц, ну два, ну три посидите, а там вдруг и, помяните мое слово, сами и явитесь, да еще как, пожалуй, себе самому неожиданно…») и морковкой перед носом, сиречь посулами скидки срока заключения. Но с другой стороны, можно читать монолог Порфирия с однозначным восторгом перед глубоким и сочувственным пониманием проповедником «нерешенной» души Раскольникова. Тут можно указать на несомненную искренность слов Порфирия – и когда он говорит «объясниться пришел-с, долгом святым почитаю», и когда обезоруживающе удивляется: «э, полноте, что мне теперь приемы! Другое бы дело, если бы тут находились свидетели», и когда бьет на искренность: «я вас, во всяком случае, за человека наиблагороднейшего почитаю-с, и даже с зачатками великодушия-с, хоть и не согласен с вами во всех убеждениях ваших, о чем долгом считаю заявить наперед, прямо и с совершенною искренностью, ибо прежде всего не желаю обманывать».
Достоевский пишет, как будто не просто отстраняясь, но устраняясь от своего персонажа и оставляя на наше усмотрение расшифровывать (трактовать) его речь, как нам заблагорассудится. Бахтин находит в этом некую высшую художественность, я нахожу в этом потерю художественности, потому что, если литературное произведение не находится на иной ступени упорядоченности по сравнению с хаосом жизни, оно на ту же ступень менее художественно. Бахтин полагает, что Достоевский хладнокровно и искусно планирует такую манеру письма, я полагаю, что эта манера есть результат того, что Достоевский находится в состоянии внутренней разорванности, сумятицы чувств и мыслей (мировоззрений). Но, как я указывал раньше, Достоевский, сознавая эту в себе разорванность, художественно осмысливает ее через иронию и парадокс , и потому истинное понимание «секрета» манеры письма Достоевского (если угодно, ее цельности) следует искать в изначальности ее великолепного самоиздевательского парадокса (только тогда, например, открывается смысл бросающей вызов смыслу концовки «Бесов», что врачи по вскрытии отвергли у Ставрогина психическую болезнь (!?).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу