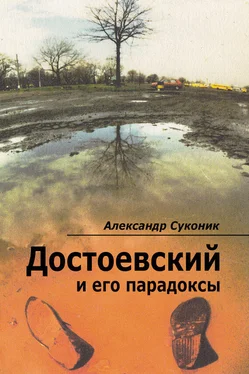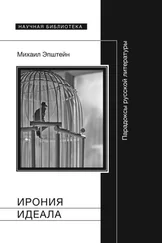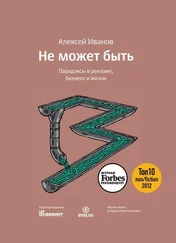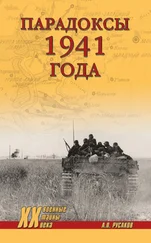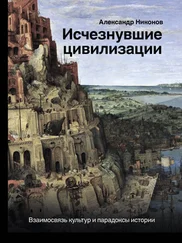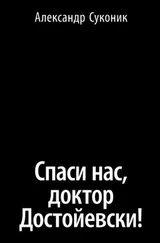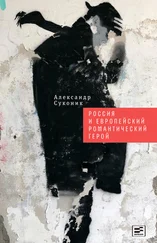Два замечания к этой книге

1. Леонард Бернстайн рассказывает смешную историю о том, как он первый раз дирижировал в Венской опере «Кавалером роз» Р. Штрауса. Он приехал в Вену за несколько дней до начала репетиций, и каждый вечер к нему в номер приходил очередной оркестрант и таинственно посвящал американского новопришельца в тонкости освященной временем традиции интерпретации этой оперы. Но, как только Бернстайн стал читать партитуру, он увидел, какая чушь была все то, что ему говорили оркестранты, и насколько они просто не знали партитуру. Тогда, перед первой репетицией, он постучал палочкой по пульту и объявил, что, хотя ему говорили то-то и то-то, оркестранты будут играть так, как он, Бернстайн говорит им играть.
Эта история напоминает мне историю с не менее освященной временем традицией понимания творчества Достоевского. Ни об одном писателе, ни о Шекспире, ни, тем более, о Бальзаке или Толстом, не писали таким восторженным образом, как писали (и продолжают писать) о Достоевском. То есть, ни об одном писателе не писали таким личностным образом, создавая (фантазируя) образ писателя, который близок и дорог пишущему, но который имеет мало или вообще ничего общего с конкретным содержанием творчества писателя.
Что ж, тем лучше, говорю я! Тем знаменательней, хочу я сказать. Зачем было вторгаться Бернстайну в мир венских оркестрантских предрассудков, как Печорин вторгся в мир азовских контрабандистов? Вот и я занимаюсь тем же и вторгаюсь в мир, построенный на столь замечательных эмоциях столь замечательного количества столь замечательных людей! Как путешественник в пустыне, как персонаж романа «Волшебник изумрудного города» я приближаюсь с затаившимся сердцем к этому миру, нет, лучше городу, дрожащему передо мной во всей своей удивительной красе разных возвышенных слов и… и лучше бы мне не приближаться. Потому что, чем ближе к нему, тем ясней заметно, насколько он дрожит миражом, мечтой, фантазией, а кто и что может поспорить с миражом и фантазией? В особенности в стране России, в особенности учитывая, насколько сам Достоевский ставил фантазию выше реальности? И все-таки, против всех шансов, я ставлю на ту самую реальность и решаю опубликовать эту книгу
2. Книга далась мне с огромным трудом, и я не смог бы ее написать, если бы меня не подзуживало понимание, что пишу не только о Достоевском, но и о России.
Этот абзац написан так, будто Достоевский глядит не на Петрова, а на Хью, персонажа из романа Диккенса «Барнаби Радж», вышедшего еще в 1841 г. В отличие от Петрова Хью действительно «крупно обозначился», предводительствуя толпой бунтовщиков во время кровавых антикатолических, т. н. гордоновых восстаний 1780 г. Достоевский слишком любил Диккенса, чтобы не читать этот роман.
Разрыв опасный, как опасна прогулка по веревочному мосту над пропастью: шаг в сторону и ты на дне соцреализма или церквореализма. «Правда жизни» ограничивает, и оковывает обручем дисциплины и самоконтроля. Избавься от нее, и из бутылки выпущен джин всевозможных будущих «измов», из которых главный – модернизм; таким образом, Достоевский и есть истинный отец модернизма.
«Высокая» моралистическая линия дон Жуана исчезает, остается «низкая» линия Лепорелло.
«У нас все началось с разврата. Чувство рыцарской чести вбивалось палкой»… «Сравнение с заграничными: тут нет заведомого злодейства, тут и в злодеях убеждение в чести и честность. У нас же не только нет честности, но и мысли о ней. Безнравственно прямо. Голый разврат эгоизма, не стыдящийся своей скверной наготы и боящийся только палки, но и той не боящийся. Это все картины интеллигентного необразованного общества. Но сохраняется и высшая интеллигенция, но страшно подумать: все седые, всё 40-е годы. А новые – в новых один цинизм, разделись догола, и ведь не для развратного удовольствия разделись (Руссо) – совсем нет, безо всякой мысли, просто так, как скоты. Собака грызет кость, другая ворчание. Вот эмблема: стащить кость и сгрызть ее самому Дикие! дикие! Орангутанг». («Записные тетради» 1875–1877 гг.)
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу