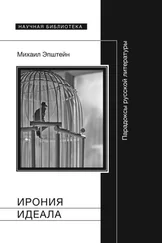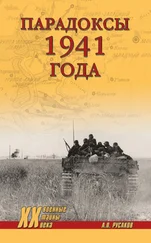Что же был такое Достоевский с этой точки зрения, как не огромное, художественное сознание, вместившее в себя проблематику, изложенную в нескольких письмах Чаадаева, и по-своему освоившее ее через парадоксы Раскольникова и веру Сони Мармеладовой? Действительно: вот как эта проблематика художественно реализуется в «Преступлении и наказании». Раскольников излагает свой парадокс, что все выдающиеся люди, двигавшие историю вперед, были преступники, потому что преступали старый закон и давали новый, но он не говорит (потому что не понимает этого), что его парадокс имеет смысл в границах истории европейской цивилизации и что к истории, скажем, Индии или Китая он не приложим. Он уверен, однако (как русский образованный человек, воспитанный в рамках западной культуры), что его парадокс приложим к истории России, – но уверен пи в этом Порфирий ?
Тут Достоевский делает вот какой ход. Раскольников, заканчивая свой парадокс, говорит: «и так до Нового Иерусалима», то есть до конца истории. Почему неверующий Раскольников не скажет по-гегелиански что-нибудь вроде «и так до момента, когда Абсолют (или Абсолютный Дух) окончательно раскроет себя»? Ему, конечно, не обязательно объясняться в заумных философских терминах, но еще менее обязательно, а главное, еще менее правдоподобно объясняться в терминах религиозных. Тем не менее он это делает против логики характера и по указке автора, чтобы открыть Порфирию возможность к мышеловке: «Так вы все же верите в Новый Иерусалим? – Верую, – твердо отвечал Раскольников».
Как реагирует на этот обмен репликами читатель? Как я уже отметил, литература тут продолжает превалировать над чистой мыслью, и читатель, находясь под впечатлением от развития детективной стороны сюжета, скорей всего воспринимает вопрос Порфирия как вопрос защитника христианской нравственности: как же, мол, ты можешь веровать и одновременно убивать? Но на самом деле тут все куда тоньше, и вопрос Порфирия куда глубже. Он прекрасно знает, что означает Новый Иерусалим в понимании Раскольникова – тот самый Новый Иерусалим, который символизирует у Гегеля конец истории, путь к которому чреват сменами режимов. Задавая вопрос о Новом Иерусалиме, Порфирий знает, что в этот момент он позволяет Раскольникову еще оставаться целиком и полностью в сфере понятий европейской цивилизации, и потому следует отдельный вопрос: «И-и-и в Бога веруете? Извините, что так любопытствую».
Насколько Порфирий в практическом смысле умней Раскольникова! Вопросы Порфирия указывают не только на то, что понятия европейской цивилизации не распространяются на Россию, но и что христианства у них разные. Если бы европейское и русское христианство были одно и то же – зачем было Порфирию отдельно от веры в Новый Иерусалим спрашивать про веру в Бога? И затем отдельно спрашивать про веру в воскрешение Лазаря?
В особенности важен вопрос о Лазаре. Взятый субъективно разговор о воскрешении Лазаря звучит навязчивой темой самого Достоевского, который жаловался, как трудно современному образованному человеку верить буквально в библейские чудеса. Но в данном случае Достоевский через Порфирия вкладывает в него более объективный смысл. Западное христианство основывается на идее, что разум это главный дар человеку Богом (Блаженный Августин), а Достоевский постоянно твердит в своих записях, что разум и вера несовместимы (сохраняя разум, невозможно признать чудо воскрешения Лазаря). Таким образом, Достоевский обогащает проблематику Чаадаева, который в «Апологии сумасшедшего» находил в русском народе нравственно превосходящее чувство желания рабства, но не касался религии – а Достоевский привносит сюда еще и особенное качество религиозности простого (не тронутого Западом) русского народа, вера которого – это вера раба, способного только на взгляд снизу вверх (такой взгляд, в противоположность взгляду сверху вниз, не требует разума).
Вот в каком контексте следует понимать вопросы Порфирия. На этой основе происходит столкновение Порфирия с Раскольниковым как идеологов, столкновение между умным и глупым романтиками. У Порфирия по характеру его умного (конкретного) идеала русской государственности в гармоническом единстве с русской народной верой есть много причин ненавидеть Раскольникова, у Раскольникова вследствие его абстрактного, глупого идеала, нет причин ненавидеть конкретного представителя власти. Порфирий знает, что он не только умней Раскольникова, но что правда (конкретная, практическая правда) на его стороне – то есть знает, как тщетна, вредна и опасна теория Раскольникова в приложении к России. Но при этом он также знает, что такой человек, как Раскольников, может быть человеком благородной души, а он, Порфирий, никогда не сможет. Достоевский отдает Порфирию все свои низкие позывы делить людей на наших и не наших, на русских и поляков, на тех, кто убежит, и кто не убежит: какая несправедливость в том, что честный служитель следственных органов и практического группового идеала не может обладать благородной душой! Можно ли представить себе, чтобы Порфирий дал деньги на поминки Мармеладова? То есть, теоретически говоря, почему бы нет, но, как умный романтик, он никогда не оказался бы в том самом месте, в тот самый момент, когда карета раздавит пьяного чиновника…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу