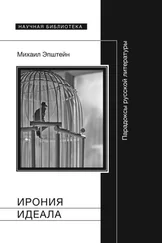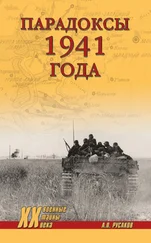В начале моего анализа романа я написал, что в «Преступлении и наказании» у Достоевского впервые появляются три «композиционных» (нереалистических согласно формуле Аристотеля) героя. Теперь я скажу иначе: в «Преступлении и наказании» Достоевский впервые создает трех героев-носителей трех «больших» идей. Свидрагайлова – носителя идеи приоритета материальности жизни. Порфирия – носителя национальной и государственной идеи с неразрывным компонентом – православной религией. И Раскольникова – носителя западного идеала «всеобщего» экзистенциального героя, под предводительством которого униженные и оскорбленные войдут в Новый Иерусалим. Разумеется, «Преступление и наказание» – это роман-трагедия, как и все следующие романы Достоевского. Но Достоевский создает тут особенный, невиданный до сих пор вид трагедии – трагедии иронической. В трагедиях Шекспира положительный герой (Гамлет, Отелло, король Лир) в результате своего несовершенства, изъянов своей натуры может гибнуть, но его по преимуществу положительность никогда не ставится под сомнение, равно как и не ставится под сомнение отрицательность злодеев типа Яго. Иначе у Достоевского: он снабжает героя, у которого есть потенциальная возможность стать положительным, таким человеческим изъяном, что, как бы тот ни был в остальном привлекателен, положительным героем его не назовешь. Когда я, прочитав «Преступление и наказание», откладываю книгу в сторону, мне приходит на ум мысль: до чего же этот роман напоминает присказку: А и Б сидели на трубе, А упало, Б пропало, что осталось на трубе? Представитель «общечеловеческой» идеи Нового Иерусалима Раскольников упал, представитель идеи приоритета плотской жизни Свидригалов пропал, и на трубе, кажется, остался сидеть представитель нац-религиозной идеи Порфирий – не слишком обнадеживающий конец для читателя, в душе которого все-таки живет абстрактный идеал, одинаковый для всех людей, а не конкретный идеал «наши против ваших». Вот почему еще я называю роман Достоевского иронической трагдией: в отличие от трагедий Шекспира из него нельзя вывести, на стороне какого идеала стоит автор. Он действительно отвергает идеал приоритета материальности жизни, выраженный через образ Свидригайлова, но, когда дело доходит до конфронтации идей, выразителями которых являются Раскольников и Порфирий, все погружается в неопределенность. Если бы тут было только противостояние гуманного следователя против преступника, вообразившего себя сверхчеловеком, все было бы ясно. Опять же, если бы каким-то волшебным образом было доказано, что теоретические парадоксы Раскольникова-автора (и философия Гегеля) обязательно приводят к тому, что люди становятся убийцами… Или хотя бы если бы в течение романа Раскольников в хоть какой-то момент хоть как-то потерял благородство и прямизну характера и хоть как-то уравнялся бы с непрямизной Порфирия… Или если бы Раскольников раскаялся… даже если бы не в романе, но в неопределенном будущем после Эпилога…
Ах, да – Эпилог, мне не следует забывать об Эпилоге.
Зачем Достоевский пишет эпилог?
1. Затем, что он любит Раскольникова и не может расстаться с ним.
2. Затем, что он не любит Порфирия и хочет показать, как его пророчества обернутся пустыми словами.
3. Затем, чтобы протянуть еще хоть чуть-чуть в затаенной надежде, вдруг Раскольников раскается.
4. Затем, чтобы полюбоваться на нераскаивающегося Раскольникова.
Возьму третий и четвертый пункты. Бахтин презрительно отметает Эпилог как монологический, и он совершенно не прав. В Эпилоге между автором и его героем происходит диалог, каких у Достоевского больше никогда не будет. Достоевский, как будто стоя рядом Раскольниковым и глядя на него немножко снизу вверх, ведет с ним немножко комический упрашивающий диалог на тему раскаяния: «О, как бы счастлив он (то есть ты) был, если бы мог сам обвинить себя! Он (то есть ты) снес бы тогда все, даже стыд и позор». Увы, Раскольников не желает слушать уговоры Достоевского так же, как он не желал слушать проповедь Порфирия, он занят своим отдельным: «…он строго судил себя, и ожесточенная совесть его не нашла никакой особенно ужасной вины в его прошедшем, кроме, разве, простого промаху, который со всяким мог случиться». Раскольниковская «ожесточенная совесть» (совесть без самообманов и уверток) это, видимо, совсем другая, отдельная совесть, чем та, которой оперирует христианский мир; но даже понимая это, Достоевский не может остановиться и продолжает навзрыд: «И хотя бы судьба послала ему раскаяние – жгучее раскаяние, разбивающее сердце, отгоняющее сон, такое раскаяние, от ужасных мук которого мерещится петля и омут! О, он (то есть ты) обрадовался бы этому! Муки и слезы – ведь это тоже жизнь».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу