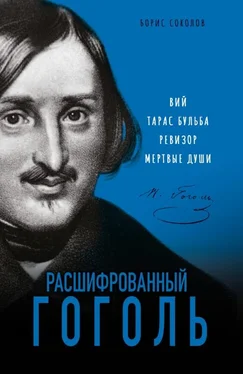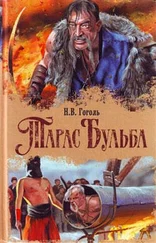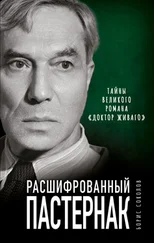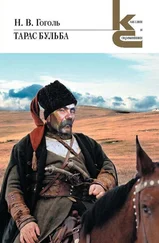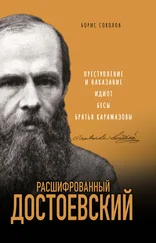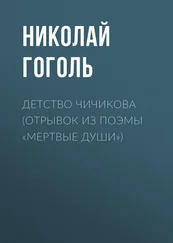К. С. Аксаков писал в статье «Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения Чичикова, или Мертвые души» (1842), что Манилов «при всей своей пустоте и приторной сладости, имеющий свою ограниченную, маленькую жизнь, но все же жизнь, – и без всякой досады, без всякого смеха, даже с участием смотришь, как он стоит на крыльце, куря свою трубку, а в голове его и Бог знает что воображается, и это тянется до самого вечера».
Манилов и его жена дают нам сниженный, опошленный вариант взаимоотношений героев «Старосветских помещиков». Пошлость Манилову придают прекраснодушные мечтания, которых лишены гораздо более симпатичные Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна. Но к Манилову испытываешь жалость, потому что он действительно живет в ирреальном мире собственных мечтаний.
В. Г. Белинский в статье «Ответ «Москвитянину» (1847) отмечал, что Манилов «пошл до крайности, сладок до приторности, пуст и ограничен; но он не злой человек; его обманывают его люди, пользуясь его добродушием; он скорее их жертва, нежели они его жертвы. Достоинство отрицательное – не спорим; но если бы автор придал к прочим чертам Манилова еще жестокость обращения с людьми, тогда все бы закричали: что за гнусное лицо, ни одной человеческой черты! Так уважим в Манилове это отрицательное достоинство».
Характеризуя революционные события 1917 года, Бердяев не случайно помянул Манилова: «В нашем летнем герое аграрной революции было поистине что-то гоголевское. Немало было также маниловщины в первом периоде революции и в революционном Временном правительстве». «Маниловщина» со времен Гоголя считается характерным свойством русского народа, а не только образованной его части.
Как и Манилов, Плюшкин вызывает нашу жалость. Однако если над Маниловым мы смеемся, то над судьбой Плюшкина ужасаемся. Этого человека страсть к накопительству в сочетании со скупостью буквально свела с ума. В черновом наброске заключительной главы то ли первого, то ли второго тома поэмы Гоголь характеризует Плюшкина как пример предельного омертвения души: «…Еще не так страшно для молодого, ретивый пыл юности, гибкость не успевшей застыть и окрепнуть природы, бурлят и не дают мельчать чувствам, – как начинающему стареть, которого нечувствительно обхватывают совсем почти незаметно пошлые привычки света, условия, приличия без дела движущегося общества, которые до того, наконец, все опутают и облекут человека, что и не останется в нем его самого, а кучка только одних принадлежащих свету условий и привычек. А как попробуешь добраться до души, ее уже и нет. Окременевший кусок и весь уже превратившийся человек в страшного Плюшкина, у которого если и выпорхнет иногда что похожее на чувство, то это похоже на последнее усилие утопающего человека».
К. С. Аксаков писал в статье «Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения Чичикова, или Мертвые души» (1842) о Плюшкине, что это «скупец, но за которым лежат иначе проведенные годы, который естественно и необходимо развился до своей скупости; вспомните то место, когда прежняя жизнь проснулась в нем, тронутая воспоминанием, и на его старом, безжизненном лице мелькнуло выражение чувства».
А. А. Григорьев в статье «Гоголь и его последняя книга» (1847) полагал, что в образе Плюшкина «потеря одного чувства, с одной стороны, и чудовище-привычка – с другой, довели человека до окончательного отпадения от образа Божия».
В. Г. Белинский в статье «Ответ «Москвитянину» (1847) писал о Плюшкине: «…Кому не случалось встречать людей, которые немножко скупеньки, как говорится, прижимисты, а во всех других отношениях – прекраснейшие люди, одаренные замечательным умом, горячим сердцем? Они готовы на все доброе, они не оставят человека в нужде, помогут ему, но только подумавши, порассчитавши, с некоторым усилием над собою? Такой человек, разумеется, не Плюшкин, но с возможностию сделаться им, если поддастся влиянию этого элемента и если, при этом, стечение враждебных обстоятельств разовьет его и даст ему перевес над всеми другими склонностями, инстинктами и влечениями».
Согласно гипотезе, выдвинутой Ю. В. Манном, по одному из вариантов продолжения «Мертвых душ» Плюшкин должен был оказаться в Сибири, где пережить «смерть и видение ада», а затем воскреснуть к новой жизни и превратиться в сборщика денег на построение Божьего храма.
Ноздрев – один из немногих персонажей «Мертвых душ», кому, по крайней мере, чужда страсть к стяжательству. Зато в нем получили развитие все пороки, свойственные Хлестакову, – безудержная страсть к вранью, причем Ноздрев не только порой врет бессознательно, как и герой «Ревизора», но и нередко сознательно плутует, например в карточной игре. Страсть к игре, пьянству и разгульной жизни в нем выражена еще сильнее и ярче, чем в Хлестакове. Фамилия «Ноздрев» подчеркивает необыкновенный нюх героя на ситуации, где он может удовлетворить свою страсть к игре, выпивке и скандалу: «Чуткий нос его слышал за несколько десятков верст, где была ярмарка со всякими съездами и балами…» Ноздрев подобен Хлестакову еще и тем, что действует импульсивно, без заранее обдуманного намерения, все его действия хаотичны и приводят к непредсказуемым результатам. Под стать Ноздреву и блюда, которые готовит его повар: «Обед, как видно, не составлял у Ноздрева главного в жизни (в отличие от Собакевича или Петуха. – Б. С. ); блюда не играли большой роли: кое-что и пригорело, кое-что и вовсе не сварилось. Видно, что повар руководствовался более каким-то вдохновеньем и клал первое, что попадалось под руку: стоял ли возле него перец – он сыпал перец, капуста ли попалась – совал капусту, пичкал молоко, ветчину, горох, – словом, катай-валяй, было бы горячо, а вкус какой-нибудь, верно, выйдет».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу