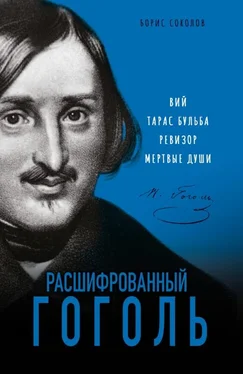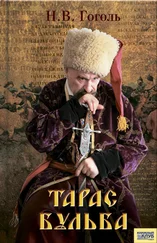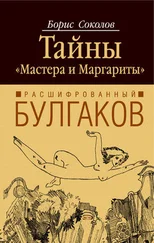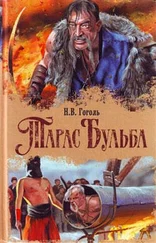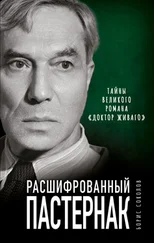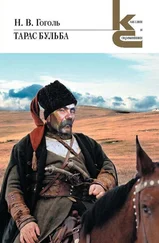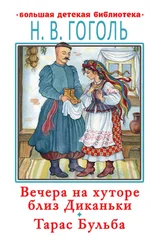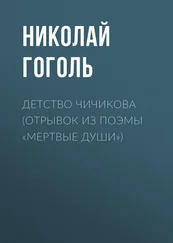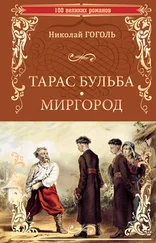Хотя Чичиков предстает… во всех самых «прозаических» подробностях его судьбы и облика, характер его отнюдь не сводится… к низменному «приобретательству»… Гоголь определил его стремление словами «непостижимая страсть» – это не раз так или иначе подтверждается…
Гоголевская поэма… воссоздает как бы естественный – и, следовательно, неизбежный – крах нового Наполеона: «естественность» краха выражается уже в том, что никто вроде бы не вступает на путь прямого сопротивления Чичикову – скорее, даже напротив. И все-таки его операция срывается, и он бежит из города, который, казалось бы, уже сумел очаровать, зачаровать…»
В. В. Розанов в статье «О сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира» (1907) писал: «Если кусок из прозы Гоголя, самый благожелательный, самый, так сказать, бьющий на добрую цель, вставить в Евангелие – то получим режущую какофонию, происходящую не от одной разнокачественности человеческого и Божественного, слабого и сильного, но от разно-категоричного: невозможно не только в евангелиста вставить кусок Гоголя, но – и в послание какого-нибудь апостола. Савл не довоспитался до Павла, но преобразился в Павла; к прежней раввинской мудрости он не приставил новое звено, пусть новую голову – веру в Христа, нет: он изверг из себя раввинство…
Христос никогда не смеялся. Неужели не очевидно, что весь смех Гоголя был преступен в нем как в христианине?!»
В свете этих рассуждений Розанова можно объяснить и неудачу, постигшую Гоголя, когда он попытался Чичикова из Савла превратить в Павла, поставить его предприимчивость, энергию, умение обходиться с людьми на службу доброму делу. Образ сопротивлялся подобной трансформации. Оказалось, что дать Чичикову в качестве объекта поклонения вместо копейки Христа просто невозможно – образ умрет, выродится в безжизненную схему. Наполнить его положительным содержанием – это все равно что вливать молодое вино в старые мехи.
Из персонажей помещиков, может быть, по-своему самая симпатичная – это Настасья Петровна Коробочка. В черновом наброске заключительной главы то ли первого, то ли второго тома поэмы Гоголь следующим образом характеризует Коробочку: «…коллежская регистраторша Коробочка, не читавшая и книг никаких, кроме Часослова, да и то еще с грехом пополам, не выучилась никаким изящным искусствам, кроме разве гадания на картах, умела, однако ж, наполнить рублевиками сундучки и коробочки и сделать это так, что порядок, какой он там себе ни был, на деревне все-таки уцелел: души в ломбард не заложены, а церковь на селе хоть и не очень богатая, была, однако же поддержана, и правились и заутрени и обедни исправно, – тогда как иные, живущие по столицам, даже и генералы по чину, и образованные и начитанные, и тонкого вкуса и примерно человеколюбивые, беспрестанно заводящие всякие филантропические заведения, требуют, однако ж, от своих управителей все денег, не принимая никаких извинений, что голод и неурожай, – и все крестьяне заложены в ломбард и перезаложены, и во все магазины до одного и всем ростовщикам до последнего в городе должны».
Героиня хозяйственна, не зла, и крестьяне ее как будто не бедствуют. Единственный ее существенный порок – это страсть к накопительству, стремление не продешевить даже на мертвых душах. Эта страсть, с одной стороны, не столь гипертрофированно-разрушительная, как у Плюшкина, но, с другой стороны, и не столь расчетливая, как у Собакевича.
В. Г. Белинский в статье «Ответ «Москвитянину» (1847) писал: «Коробочка пошла и глупа, скупа и прижимиста, ее девчонка ходит в грязи, босиком, но зато не с распухшими от пощечин щеками, не сидит голодна, не утирает слез кулаком, не считает себя несчастною, но довольна своею участью».
Помещик Манилов тоже по-своему симпатичен и вызывает, как и следующий за ним Плюшкин, скорее жалость, чем осуждение. В черновом наброске заключительной главы то ли первого, то ли второго тома поэмы Гоголь так характеризует Манилова: «…Манилов, по природе добрый, даже благородный, бесплодно прожил в деревне, ни на грош никому не доставил пользы, опошлел, сделался приторным своею добротою…»
Сцена с детьми Манилова, когда он спрашивает Фемистоклюса, хочет ли он быть посланником, отражала мнение Гоголя, выраженное в письме сестре Анне в декабре 1847 г.: «Насчет племянника нашего скажу тебе, что мне показалось, будто в нем ни к чему нет особенной охоты. Я его совсем не спрашивал о том, в какую он хочет службу. Он – дитя и не может еще и знать даже, что такое служба, я думал только, не вырвется ли как-нибудь в словах его любовь и охота к какому-нибудь близкому делу, которое под рукой и о котором мальчик в его лета может иметь понятие. Но мысль о дипломатии ни к чему не показывает наклонности. Там большею частью праздные места и должности без занятий, куда назначаются только богатые и знатные люди, да и при том мало одного французского языка. Нужно их знать много. Стало быть, об этом нечего и думать. А ты внуши ему, по крайней мере, желанье читать побольше исторических книг и желанье узнавать собственную землю, географию России, историю России, путешествия по России. Пусть он расспрашивает и узнает про всякое сословие в России, начиная с собственной губернии и уезда…»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу