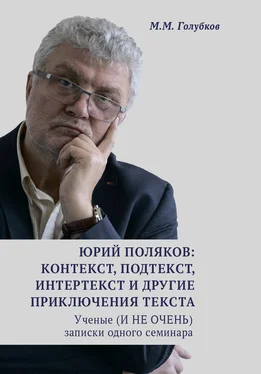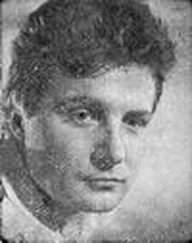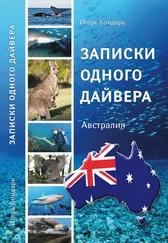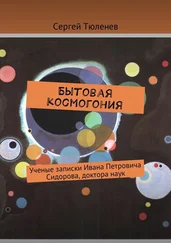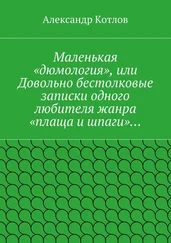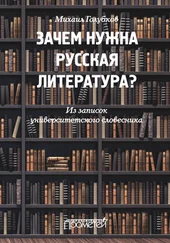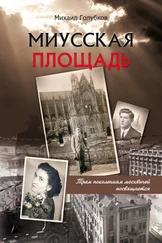Л е р а. Ай да Василий! Ну прямо Павел Власов. Машенька, ты не находишь?
М а ш а. Это из какого сериала?
Л е р а. «Мать».
М а ш а. Я не смотрела. (С. 65–66.)
В данном фрагменте нашла словесное выражение та апроприация постсоветской культурой массового потребления соцреалистического наследия. Если отбросить весь свойственный пьесе комический пафос, то легко обнаруживается интерес Полякова к данной проблематике: одну из героинь (Леру) он делает «психокультурологом». Лера занята написанием докторской диссертации «о влиянии виртуальных матриц на динамику социума», она «изучает влияние героев сериалов на реальных людей» (С. 20). Множество деталей указывают на пристальное внимание Полякова к механизму восприятия и потребления человеческим сознанием продукции массовой культуры. Интересен и «новый» адрес (он был добавлен Поляковым при публикациях текста после 2003-го года), по которому находится квартира Кошелькова и Маши, служащая площадкой основного действия пьесы. Герои живут на 19 этаже в доме № 8 в 44-ой квартире по Зоологической улице в Москве [62] Интересно, что в первой публикации пьесы значился другой несуществующий адрес: «тупик Победы, дом восемь, квартира сорок четыре» (см.: Хомо эректус: Пьесы и инсценировки. С. 41). Однако в более поздних изданиях принадлежность действия к Москве стала однозначной.
.
Адрес этот вполне реален, но по нему с 1895-го года располагается двухэтажное нежилое здание. Важным оказывается другой факт: именно здесь с мая 1996 по 2014 год располагалась компания «Союзрекламфильм», что также может служить своеобразным свидетельством пристального авторского интереса к той проблеме, решение которой он доверил своей героине. Вообще для текстов Юрия Полякова характерно проявление пристального внимание к тому пространству, где действуют его герои: писатель лично посещает эти места и там понимает, каким образом поступит тот или иной персонаж [63] Сообщил М. М. Голубков.
. Поляков – коренной москвич и большой знаток своего родного города, и упустить данное несоответствие – значило бы легкомысленно отнестись к тексту пьесы. Вернемся к обсуждаемому фрагменту. В нем героини примерно одинакового возраста (Лера старше тридцатилетней Маши всего на пять лет) утверждают, хоть и косвенно, что главный герой, как было принято говорить в советском литературоведении, «раннего соцреалистического» романа М. Горького «Мать» (1906) Павел Власов и герой какого-нибудь «добротного мыла» (сериала) – явления одного порядка. И, если продолжать размышление героинь, равноправные по сути своей герои могут с легкостью произвести обмен ролями и даже культурными реальностями. Сам Василий Борцов и выступает наглядным примером такого «обмена» реальностями. Подобно замороженному на 50 лет герою «феерической комедии» В.Маяковского «Клоп» (1928) – Ивану Присыпкину (Пьеру Скрипкину), место которому в будущем отведено только в качестве экспоната в зоологическом музее, коммунист Борцов как бы оказывается перенесенным сквозь время в «новую жизнь», в квартиру, повторимся, к И. Кошелькову по адресу Зоологическая , дом № 8. Одна лишь разница:
у Маяковского мотивация этого перехода явно фантастическая [64] Как и мотивация прибытия Воланда в сталинскую Москву в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» или появления джинна старика Хоттабыча (Гассана Абдуррахмана ибн Хоттаба) в одноименной повести Л. Лагина.
, ориентированная на во многом иррационалистическое мышление человека 1920-х годов, а у Полякова – абсурдистская , парадоксальная, вызванная кризисом объяснительных способностей литературы, ее обесцениванием. Попадая во враждебное для него пространство постсоветской Москвы, герой поляковской пьесы как бы осуществляет трансгрессию – переход через заведомо непереходимую для него границу. Василий Борцов действительно становится Павлом Власовым, вынужденным существовать не на страницах соцреалистического текста, а если и не в рамках сериала, то в абсолютно чуждом для него измерении. Как видим, любой персонаж (как в случае «Хомо эректуса»), ситуация, словесная или сюжетная схема – все, что в условиях советской культуры непременно атрибутировалось как элемент «канона», становится принадлежащими современной действительности, наравне с тем, как «норма» в шестой части одноименного сорокинского романа постепенно овладевает всеми сферами жизни человека. В подобных условиях маркированность элемента как (quasi)соцреалистического перестает считываться. Благодаря этому же механизму, еще одна формула, принадлежащая советскому культурному континууму, искажается.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу