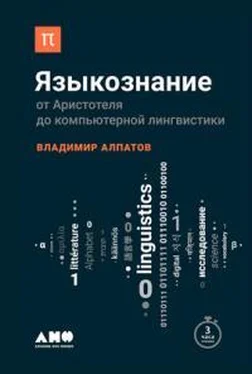Самое же убедительное для индоевропеиста — регулярные соответствия в грамматических морфемах, особенно в окончаниях словоизменения; именно их установил еще Ф. Бопп. Сходство таких морфем во многих индоевропейских языках еще в первой половине XIX в. позволило доказать их родство. Потом, однако, выяснилось, что значительная устойчивость морфологических показателей — скорее особенность индоевропейской семьи, чем общая закономерность.
На основе очень сложной и разработанной методики ученые еще в XIX в. научились реконструировать корни и аффиксы праязыка, не засвидетельствованные в письменных источниках. Иногда, хотя и не часто, бывали случаи, когда реконструированную форму потом удавалось найти в памятнике. Так получилось еще в середине XIX в. с так называемой народной латынью — языком-предком современных романских языков (классическая латынь — несколько более раннее состояние этого языка). Такие примеры подтвердили правильность сравнительно-исторического метода. Однако чаще реконструируют слова и формы, относящиеся к той эпохе, когда еще не было и не могло быть письменности. По современным представлениям, индоевропейский праязык существовал в V–IV тысячелетиях до н.э. Тем не менее уже Шлейхер сумел дойти в своих реконструкциях до этого праязыка, он даже решил, что восстановил этот язык настолько, что можно писать на нем тексты, и сочинил басню «Овца и кони». Теперь очевидно, что полностью восстановить праязык нельзя хотя бы потому, что какие-то слова и грамматические формы могли не сохраниться ни в одном известном нам языке-потомке, следовательно, их неоткуда взять. Тем не менее ряд реконструкций Шлейхера актуален и для современной компаративистики.
Уже к середине XIX в. состав индоевропейской семьи был в основном установлен, а к концу века было в общих чертах построено гигантское здание индоевропеистики, хотя достройка его не окончена и сейчас. Лишь в первой половине ХХ в. была доказана индоевропейская принадлежность давно не существующих, но известных по памятникам языков хеттской и тохарской групп. Их материал заставил во многом пересмотреть ранее полученные реконструкции. И сейчас в районе Гиндукуша и западных Гималаев есть, несомненно, индоевропейские, но недостаточно изученные бесписьменные языки.
Развитие компаративистики никогда не прекращалось, в ХХ в. она перестала ограничиваться индоевропеистикой и распространилась на многие семьи, а затем и макросемьи. Но еще в конце XIX в. и особенно в начале ХХ в. сравнительно-историческое языкознание и историческое языкознание в целом оказались в теоретическом кризисе. Как писал в 1920-е гг. советский лингвист Григорий Осипович Винокур (1896–1947), «европейская лингвистика находится ныне в состоянии некоторого внутреннего разброда…. Мы присутствуем при подлинном кризисе лингвистического знания». Его причиной был разрыв между мощным и развитым сравнительно-историческим методом и слабой сравнительно-исторической теорией.
Компаративная теория может быть сведена к нескольким положениям, из которых интуитивно исходили все ученые, начиная с Боппа, но наиболее четко сформулированы они были Августом Шлейхером в 1850–1860-е гг. Главное из них — идея так называемого родословного древа. Она основана на выделении двух разнонаправленных процессов: языки развиваются от первоначального единства к множеству, а исследователь идет в обратном направлении — от множества языков-потомков к единому праязыку (языку-основе). Согласно концепции родословного древа, языки лишь расходятся и никогда не сходятся, а контакты между языками могут как-то повлиять на их развитие, но не могут изменить ни для одного языка его исходную принадлежность к той или иной семье и группе. Все достижения компаративного метода за два столетия исходят из этих идей.
Теоретические основы компаративного метода всегда были уязвимыми, но его реальные достижения трудно было оспаривать. Об этом писал еще в 1908 г. выдающийся швейцарский лингвист, ученик Соссюра Альбер Сеше (1870–1946): «Эта регулярность фонетических законов, эта проверенная эмпирически и так удачно использованная грамматистами гипотеза нуждалась в рациональном обосновании. Такая попытка была предпринята, но и здесь проявилось отставание теории от практики, и следует признать, что эта попытка так до сих пор и не увенчалась успехом. И если мы по-прежнему верим в плодотворность этого принципа, то потому, что он существует и приносит пользу, а совсем не потому, что мы его поняли». Если серьезных попыток опровержения сравнительно-исторического метода никогда не было, то предложенное Шлейхером его «рациональное обоснование», то есть теоретические принципы, не раз подвергалось критике в разные эпохи. Особо надо отметить таких ученых, как Бодуэн де Куртенэ и Трубецкой.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу