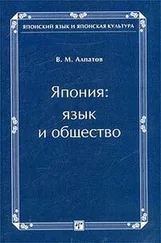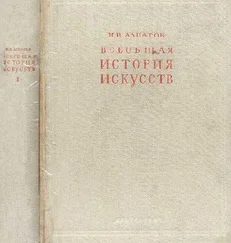Еще одним вопросом, вызвавшим значительные дискуссии среди компаративистов и теоретиков языка, стал вопрос о понятии закона в историческом языкознании. Ученые второй половины XIX в., заимствовав понятие закона из естественных наук, придавали ему очень большое значение. Видные представители школы младограмматиков Г. Остгоф и К. Бругман писали: «Каждое звуковое изменение, поскольку оно происходит механически, совершается по законам, не знающим исключений, то есть такое изменение происходит во всех словах, где имеется тот или иной звук». Это положение подвергалось критике со стороны многих ученых: чуть ли не из каждого закона, выделявшегося младограмматиками, находились исключения, иногда многочисленные. Из этого, однако, не вытекает, что понятие закона должно быть отброшено. Сейчас оно уже не имеет столь глобального значения, как во времена младограмматиков, но столь же неустранимо из компаративистики, как и представление о родословном древе. Из элемента теории (что было весьма уязвимо для критики) оно превратилось в чисто методическое правило. Как и понятие родословного древа, это — некоторый идеал. Ясно, что законы могут иметь исключения, но компаративист должен исходить из презумпции поиска законов, не знающих исключений. На их основе объясняется максимум фактов, а затем приходится думать, как объяснять то, что никак не подпадает под действие законов. Об этом хорошо сказал еще в 1933 г. Абаев: «Исследование, основанное на рабской вере в непогрешимость звуковых законов, обесценивается наполовину; исследование, вовсе игнорирующее эти законы, не имеет вообще никакой цены». Опять-таки критики понятия звукового закона бывали правы, но, как и в случае с родословным древом, столь же «работающей» альтернативы ему выработать не удалось.
Другая важнейшая проблема, оказывавшая влияние на снижение интереса к исторической лингвистике, была связана с причинами исторических изменений в языках. Лингвисты умели отвечать на вопрос «как», но не на вопрос «почему». Как писал уже упоминавшийся Винокур, вместо истории языка изучалась история звуков, а открытые учеными звуковые законы не раскрывали культурно-историческое содержание языка. Например, известно, что в древнерусском языке был особый звук (фонема), записывавшийся специальной буквой «ять». Удалось установить, что это было закрытое э (звук более узкий, чем э , и более широкий, чем и ). Затем в большинстве великорусских диалектов, включая те, что легли в основу русского литературного языка, этот звук перестал отличаться от звука, записываемого буквой е (что и привело в конечном итоге к отмене ятя). Однако в двух противоположных концах восточнославянской зоны — на Украине и на крайнем севере России (побережье Белого моря) — он совпал с и . Украинская буква i часто пишется в тех словах, где в старой русской орфографии был ять. Это всё было описано еще в науке XIX в., а ход процесса совпадения звуков был детально изучен по памятникам. Однако вставали вопросы. Почему развитие одним путем происходило в центре зоны, а другим — на ее окраинах? Почему звук почти нигде не сохранился в виде отдельной фонемы? Почему он совпал с соседними звуками именно так, а не наоборот? Произошло ли это изменение целиком по внутренним причинам или влияли культурно-исторические факторы, внешние по отношению к языку? На все эти вопросы наука того времени отвечать не умела. Не умеет она отвечать на них и сейчас.
Как нередко бывает в истории науки, постановка проблемы, вызвавшей кризис, ведет не к ее решению, а к смене приоритетов. Кризис исторического языкознания привел, как отмечалось выше, к переносу центра внимания на вопрос: «Как устроен язык?», а теоретическое осмысление вопроса: «Как развивается язык?» — отошло на периферию. Историческое языкознание ХХ в., оставшись количественно значительным, продолжало быть по преимуществу «лингвистикой фактов», по выражению А. Сеше. Исключение составляли лишь некоторые ученые, среди которых выделяются Поливанов, Якобсон и французский лингвист Андре Мартине (1908–1999). Все они для объяснения причин языковых изменений должны были выходить за пределы языка как системы правил и обращаться к его функционированию.
Поливанов, развивавший идеи своего учителя Бодуэна де Куртенэ, специально указывал на стремление носителей языка к «экономии трудовой энергии» (по его словам, «основная пружина этого механизма» — «лень человеческая»). Говорящий бессознательно старается упростить произношение сложных звуков и сочетаний звуков, сделать систему более регулярной, освобождаясь от исключений. Каждое новое поколение усваивает уже «изношенный» в звуковом отношении скороговорочный дублет слова и само начинает сокращать («изнашивать») его далее». Однако для экономии имеются пределы: при слишком большой экономии речь становится невнятной и непонятной. Эти идеи развил Якобсон, который видел в языковых изменениях проявление противоречия между потребностями говорящего и слушающего: «Оба участника акта речевой коммуникации подходят к тексту совершенно по-разному». Говорящий старается при построении текста экономить свои усилия и устранять часть существующих в языке различий, но слушающему нужно понять текст на основе этих различий, поэтому для него полезна избыточность, дублирование одного и того же, тогда как экономия затрудняет восприятие. Тем самым потребности говорящего способствуют изменениям, а потребности слушающего предохраняют от слишком сильных изменений в языке.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу