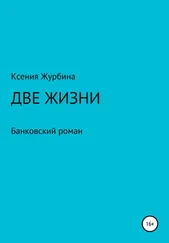Ин 13: 34.
Мф 13: 44. Курсив мой. – М. К.
Мк 9: 35.
ЗМф 7: 15–16.
См.: Мф 7: 15–20; 12: 33; Лк 6: 43–44. На личном экземпляре Нового Завета стих 33 главы XII Евангелия от Матфея отчеркнут Достоевским (Хетса. С. 19).
Иез 14: 22–23.
Мф 4: 8.
О РОЛИ КНИГИ РЕНАНА
Достоевская, Дневник. С. 66.
Кийко Е. И. Достоевский и Ренан // Достоевский. Материалы и исследования. Т. 4. Л., 1980. С. 106.
Renan. Р. 371.
Д., Письма. Т. I. С. 513.
Ин 14: 6.
Хетса. С. 39.
Renan. Р. 350–351. Здесь и далее перевод с французского на русский сделан мною. – М. К.
Умецкая (о реальном прототипе этой героини см.: 9, 340–341) должна была воплощать в себе « бесконечную» наивность, забитость и быть не от мира сего. В черновиках к неосуществленной редакции «Идиота» сказано, например, что она проповедует Евангелие «в сумасшествии» (9, 183).
Ин 19: 30; Лк 23: 46.
Мф 27: 46; Мк 15: 34.
Ин 19: 26–27.
Renan. Р. 349.
Мф 27: 45; Мк 15: 33; Лк 23: 44–45.
Карамзин. Т. I. С. 208. А. М. Достоевский упоминает в своих «Записках», что «Письма русского путешественника» наряду с другими произведениями Карамазина читались в гостиной Достоевских с тех пор, как он себя помнит (Воспоминания современников. Т. 1. С. 84–85).
См.: Достоевская, Дневник. С. 366 и Гроссман, Семинарий. С. 59. (Ср.: 8, 182).
По мнению В. Терраса, высказанному в беседе со мною, картина Гольбейна, как и ряд других ей подобных, свидетельствует о силе веры человека XVI столетия: в то время христианин не нуждался еще в эстетизации религии.
Renan. Р. 370.
Мф 4: 1-11; Мк 1: 12–13.
Об очень своеобразном характере «искушения» см. С. 155–167.
Чудесные годы. С. 304.
Активной роли читателя в восприятии романа, на которую рассчитывал Достоевский, уделено огромное внимание в содержательной монографии Р. Ф. Миллер «Достоевский и “Идиот”. Автор, рассказчик и читатель» (см. библиографию). Исследовательница убедительно доказывает, что в процессе создания романа писатель был постоянно крайне озабочен реакцией читателя на образ Мышкина и на произведение в целом.
К сожалению, в ее книге есть ряд существенных недостатков, главный из которых заключается в том, что Миллер приписывает все авторские отступления рассказчику. До предела сужая функции автора и многократно утверждая, что даже самые затаенно-интимные переживания главного героя передаются от лица рассказчика, она делает его всеведущим до полного неправдоподобия.
См. письмо М. М. Достоевскому от 9 марта 1857 года. Там же сообщается, что этот доктор, «ученый и дельный», вопреки мнениям всех прежних врачей, диагностировал у писателя «настоящую падучую». См. и письмо к А. Е. Врангелю от того же числа. В нем Федор Михайлович признается, что заключение доктора «сокрушило» его «телесно и нравственно» (28 1, 275, 270). Припадки обычно сопровождались страхом смерти; приведу лишь одно из многочисленных документальных свидетельств этого. В записной тетради 1874–1875 годов Федор Михайлович подробно описывает приступ эпилепсии, случившийся в ночь на 8 апреля 1875 года, и, в частности, отмечает: «Теперь почти час после припадка. Пишу это и сбиваюсь еще в словах. Страх смерти начинает проходить, но есть всё еще чрезвычайный. Так не смею лечь» (27, 108).
Мф 11: 28–29.
Подтверждение особой ценности смирения тем, что Сам Бог смиренен, и выражение сожаления по поводу того, что ценность смирения слишком часто отрицается современной культурой, см. в книге протоирея А. Шмемана «Великий пост». Изд. 2-е. Париж, 1986. С. 21–25.
О герое повести «Невский проспект» Достоевский писал еще в 1861 году как о величайшем создании Гоголя: «Он постиг назначение поручика Пирогова». (См.: «Введение» к «Ряду статей о русской литературе»: 18, 59). Мысли о Пирогове, высказанные в «Идиоте», были повторены и развиты в «Дневнике писателя» за 1873 год («Нечто о вранье»: 21, 124–125).
См.: 12, 336.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
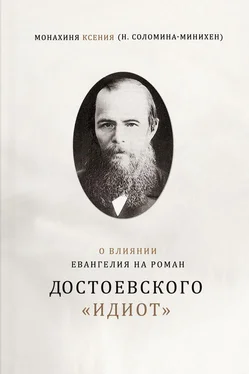
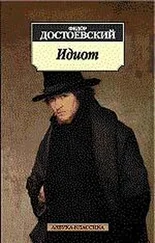


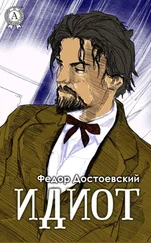
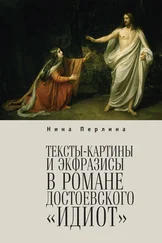
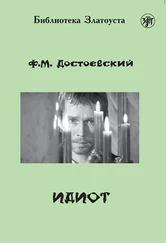
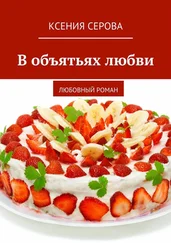
![Федор Достоевский - Идиот [litres]](/books/429285/fedor-dostoevskij-idiot-litres-thumb.webp)