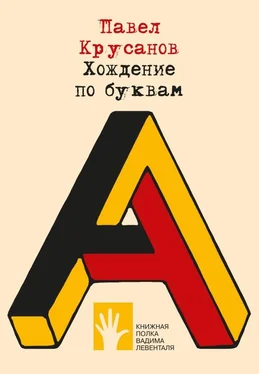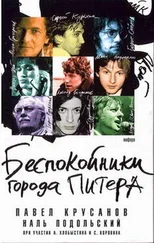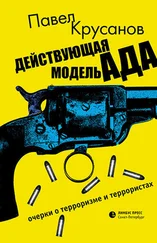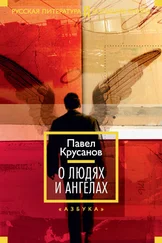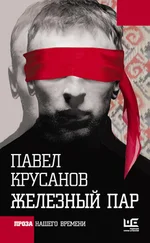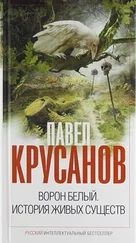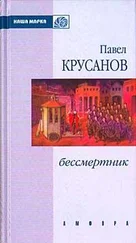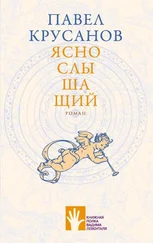Они, конечно, разные – Курёхин и Новиков. Но вместе с тем во многом схожи. Их главным творением были не записанная или сыгранная музыка, не картины, герои и события, а художественная ситуация в целом. Поражает скорость и воздушность их – и, разумеется, их соратников – захватывающих пируэтов. Никакого изнурения, вынашивания замысла, мук творчества – произведения, даже подлинные шедевры, создаются и проживаются на лету, как узоры текучей жизни. Ничего не жаль по отдельности, ничто по отдельности не рассчитано на вечность. Именно поэтому вечности пришлось принять всё время целиком и заключить в орех – до срока, когда придет вода и ядро сможет упасть на благодатную почву.
Словом, тогда был построен наполовину призрачный, однако признанный и осязаемый за счёт предъявленных сокровищ мир, который к концу девяностых исчез с радаров, как Китеж перед ордами Батыя. Мир асса-культуры оказался не по зубам бандитам и даже отбил у них, очистив от «малин», «Клуб НЧ/ВЧ», Пушкинскую, 10, и другие сквоты, но не устоял перед явившимися вслед за бандитами политиками. Потому что те в своем цинизме, жадности и жлобстве оказались беспощаднее предшественников. Время асса-культуры схлопнулось. У каждого из её паладинов был свой триумф, своя минута славы. И свой вклад в коллективное творение особенного времени-пространства, где и по сей день длится их звёздный час. Длится потому, что то время в действительности не завершилось – свернулось в кокон, обросло скорлупой и спрятало внутри свою загадочную истину, которая ещё будет предъявлена в конце времён, подобно сердцу на суде Осириса.
Вот такая книга очерков. Андрей Хлобыстин сам из тех времён – художник, искусствовед, танцующий дервиш, закручивавший вихрь. В его книге есть много что ещё: сравнительный анализ с московским концептуализмом, рейв-эпидемия и т. д. Но об этом уже не стоит.
Получил редкое удовольствие. Однако сколько нас осталось – тех, кто помнит то неизъяснимое волшебство карнавальной круговерти? Тот хохот беззаветных скоморохов, которые давали дуба от собственного смеха, как дрожжи в браге от продукта своего метаболизма? Хочется верить, что наберётся целая тыща. Именно таков тираж «Шизореволюции».
Назвать этот роман историческим не поворачивается язык. Перед нами метаистория – по Даниилу Андрееву – первичная плазма бытия, бесконечное сегодня , не позволяющее сознанию вырваться из текущего потока и возвыситься над ним, дабы обрести осмысление и ясность. А без подобного исторического отстранения мир переполнен лишь беспорядочными вспышками идей, их искажёнными отблесками и хаосом событий. Именно эта первичная плазма и составляет тело романа: бесконечное сегодня, или, как пишет в своем отзыве на спинке обложки Сергей Шаргунов: «Прямая трансляция из Гражданской войны». Именно так. Автор сознательно убирает дистанцию между читателем и описываемым временем – и этот трюк даёт такое глубокое погружение в атмосферу событий, что понимаешь: ты дышишь газом другой эпохи, живёшь непосредственно в ней и совершенно не представляешь, что будет завтра. То есть, конечно, представляешь, но только тогда, когда вынырнул и глотаешь воздух сегодняшнего дня, как рыба на льду. А пока ты там, в тексте – мир вокруг яростен и ещё не ведает, чья возьмёт.
Есть такая книга: Софья Федорченко «Народ на войне». Рассказывать о ней не буду: кто знает – поймет, кто не знает – пусть читает. Там за счёт огромного хора живых голосов достигается эффект, напоминающий описанное выше погружение. Только там фрагменты нарратива коротки, как одиночные выстрелы, зато их бесчисленное множество. Фрагменты мозаики в романе Малышева крупнее, и они звучат басовитее, как раскаты грома или канонада. Но при всём различии метода (Федорченко маскирует свой труд под документ, Малышев напротив – мифологизирует реальность) какая-то параллель в конструкции двух этих книг мне навязчиво мерещится.
Впрочем, автор отстраняется от традиции исторического романа и другими (игровыми) способами. Имя героя книги, в деталях повторяющего судьбу Махно, анаграммировано, хотя имена его соратников и братьев по вере в светлое будущее – равно как и врагов – оставлены без изменений. Точнее, имя Номах заимствовано Малышевым у Есенина – из его поэмы «Страна негодяев». Тут вообще затеяны какие-то литературные горелки , смысл которых не вполне прозрачен: одолжив у Есенина Номаха, автор помещает в свой роман и самого Есенина, купировав его фамилию до Сенина, и тот, купированный, внутри романа тоже пишет поэму «Страна негодяев», героя которой зовут как раз уже Махно. Такой вот кунштюк, разгадывать который, вероятно, нет смысла, тем более что процедура эта и самим автором не предполагается – так, попутный завиток художественной воли. Зачем разгадывать? Ведь перед нами – не история, перед нами творящаяся на глазах мифология. И это одна из характеристик текста, к которому совершенно неприменим биографический штангенциркуль, несмотря на разбросанные там и тут фактические совпадения.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу