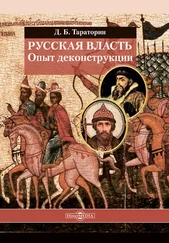Во-первых, они были самой эстетской партией. Блок печатался в их «Знамени труда», Куприн печатался в эсеровской прессе, не говоря уж о том, что главный, наверное, писатель революции 1905 года, посредственный литератор, но замечательно честный изобразитель Борис Савинков, тоже принадлежит к эсеровской партии. Эсеры сделали эту революцию и оказались ее первой жертвой.
Во-вторых, для эсера как психотипа совершенно неважно, будет ли это революция или будут это репрессии; для эсера важен сам факт участия и то, что он из себя делает в процессе этой революции. Поэтому Николай Аполлонович, неудачник в любви, и тянется к этой партии, надеясь в ней как-то преодолеть собственную половинчатость, собственную ничегошность. Дудкин, герой «Петербурга», так и говорит: «Да, мы партия ницшеанская» – совершенно открытым текстом. Поэтому эти люди идут в революцию не для того, чтобы кого-то убивать, это как бы побочный эффект, не для того, чтобы устраивать террор. Эсеры – это партия, которая воспитывает сверхчеловеков.
Роман «Петербург» – это роман о людях, которые пошли в революцию ради самовоспитания, ради превращения себя во что-то другое. И Дудкину это превращение удалось, потому что Дудкин в конце концов так же убил Липпанченко, как русские эсеры разоблачили и убили Гапона, тоже провокатора. Вот Азефа им не удалось разоблачить, мечта об убийстве Азефа осталась мечтой.
Так вот, Дудкин – это тот сверхчеловек, который закален якутскими льдами и который проходит через некоторую инициацию, через испытание безумием. Он постоянно бредит, ему все время является Петр I в виде Медного всадника, который поднимается в его одинокую каморку, кладет на него ледяную руку, превращает его в такой же лед, а лед – это и есть сверхчеловечность, холодность ко всему. И еще одна его галлюцинация, часто посещающая одиночек: после убийства Липпанченко Дудкин разговаривает с пятном на стене, обращаясь к нему «господин Шишнарфне». Это одна из главных галлюцинаций Дудкина, перс Шишнарфиев, которого в реальности не существует – видимо, и эта галлюцинация имеет явственно азиатскую восточную природу, что непосредственным образом связано с главной дихотомией романа «Восток или Запад».
История, собственно говоря, рассказана. Дудкин убил Липпанченко, и на этом сюжетная часть исчерпана. Родители Николая Аполлоновича умирают, а сам Николай Аполлонович увлекся таким своеобразным новым народничеством, на этом фабула и заканчивается, и мы можем перейти ко второму аспекту темы, а именно к восточно-западной теме. И вот она, пожалуй, самая интересная.
Проблема в том, что одним из самых влиятельных текстов русского модернизма оказалась «Краткая повесть об антихристе» Владимира Сергеевича Соловьева, в которой высказывается мысль о скором покорении России и в целом Европы восточными ордами. За свое национальное чванство, за гордыню, за огосударствление русская церковь будет наказана и православие в целом будет наказано тем, что третий мир будет стерт с лица земли, а уж четвертому – не быть, говорит Соловьев в стихотворении «Панмонголизм», которое дало Блоку в «Скифах» его знаменитый, но неточный эпиграф «Панмонголизм! Хоть имя дико, / Но мне ласкает слух оно».
Когда бушует Русско-японская война и Россия принимает свое хоть и не самое значительное, но самое, наверное, символическое поражение, идея азиатчины проникает во многие сердца. И Белый в 1915 году, когда заканчивает «Петербург», остро чувствует, что возмездие грядет и что это возмездие справедливо. Петербург – город, обреченный западной утопией, которую надо смыть, которую надо уничтожить, и тогда под красным знаменем грядет Христос (солнце – в черновиках). Но Христос может победить только вместе с нашествием нового варварства, потому что Петербург предал христианскую идею, потому что Петербург превратился в Византию. Петербург для Белого – крайне мрачный символ, крайне отталкивающий по трем причинам. Во-первых, это город больной, лихорадочный, город-галлюцинация, окаменевший сон. Это носитель больной мечты Петра, символ государства, причем государства авторитарного, абсолютистского, совершено безжалостного к человеку.
Одна из главных дискуссий в России начала двадцатого века развернулась между Мережковским и Розановым по поводу статьи Розанова, напечатанной под псевдонимом Варварин, о памятнике Александру III скульптора Павла Трубецкого. Помните классическую эпиграмму: «Стоит комод, / На комоде – бегемот, / На бегемоте – обормот…»? Розанов пишет: «Монумент Трубецкого, – единственный в мире по всем подробностям, по всем частностям, – есть именно наш русский монумент», а «Медный всадник» – это утопия, это мечта. России нужна вот эта уютная лошадь, нам нужна широкая ватная спина, широкая задница, нам нужен конь, похожий на комод. И Мережковский в статье «Свинья матушка» в ужасе возражает ему: как же надо ненавидеть Россию, если символом ее вы считаете не «Медного всадника», а эту медную свинью! Но для Розанова символ выглядит именно так, и главная русская дихотомия – это дихотомия двух конных памятников.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
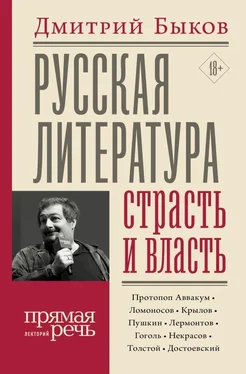
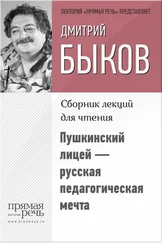


![Дмитрий Быков - Советская литература - мифы и соблазны [litres]](/books/398599/dmitrij-bykov-sovetskaya-literatura-mify-i-soblazn-thumb.webp)