Едут дальше. И тут бегут загонщики с криком «кабан! кабан!», и героиня с восторгом видит, как француз стреляет совершенно в противоположную сторону, и кабан радостно, с хрюканьем, проносится мимо них и исчезает в чаще. Жизнь его спасена. И героиня для полноты счастья думает, а не спасти ли еще и ежа. И относит ежа в кусты, который уже совершенно сомлел. И вот этот вот финал изумительный, когда они возвращаются с гор, и она с нежностью уже сидит на осле, который тоже, казалось, с ней вместе в этом общем жизнерадостном заговоре. Этот финал для Тэффи очень типичен, потому что все добрые люди без слов друг друга поняли и сговорились спасти бессловесную тварь.
Вот эта кипучая прелесть мира, которая у нее в каждом слове, в каждой строке, входит в особенно мучительное противоречие с вечным русским стремлением мучить друг друга. В одном из последних своих рассказов, в сборнике «Маленькие рассказы», когда уже не хватало у нее сил на большую прозу, восьмидесятилетняя Тэффи пишет:
Едва ли не самое грустное, что я видела в жизни, – это красавица роза, еще высокая, еще полная жизни, вдруг застывшая над одним отпавшим лепестком, она смотрит на этот лепесток и понимает, что началось. И я смотрю на нее и понимаю, что она понимает. А что же я могу сделать?
И вот это «а что же я могу сделать?» – это некий горький и страшный лейтмотив творчества этого автора, очень боящегося прямо проговориться о страшном. Но сделать кое-что можно. Можно словом кое-как попытаться привести этот мир в чувство. Словом его несколько, что ли, обуютить.
Напоследок несколько слов об отношении ее к советской власти. Как все англичане, Тэффи недолюбливала Россию, но испытывала огромную нежность к русским людям, к прекрасным русским чудакам. Разве такие есть на Западе, как в рассказе «Диковинные люди» из сборника «Наше житье» (1923–1927)? Вот учитель, который никогда не жил в Париже и не бывал за границей, всю жизнь копил на поездку в Париж. Потом ему надоело, и он вместо Парижа выписал себе золотые часы в рассрочку. Прислали часы в футляре, футляр в коробке, а коробка еще в одной – картонной. Так он и носил в кармане коробку, чтобы замша не потрескалась и футляр не потерся.
Вот этих замечательных чудаков она любит. А к стране у нее сложное отношение. Эта почти уже нищая, неизлечимо больная старуха в 1945 году, придя на прием в советское посольство, не пьет за здоровье Сталина, отвергает предложение Симонова поехать в Россию, хотя ее пиратски очень много издавали, как ни запрещала она до 1927 года (издание Тэффи в Советской России возобновляется только в 1966 году). И вот в этом, пожалуй, тоже мне видится нечто английское. И это отвечает на вопрос о псевдониме.
Никто не знает, почему Тэффи. То ли потому, что у Киплинга были строчки: «Taffy was a walshman / Taffy was a thief … » — «Тэффи был уэльсец, Тэффи был воришка». То ли потому, что Стэффи звали слугу в отцовском доме, прославленного своею глупостью. Она убрала это «с». Или потому, наверное, что благодаря своему языковому чутью она понимала: в «Тэффи» есть что-то очень английское. Вот и она – что-то такое же английское, недосягаемое в русской литературе и единственное.
Роман «Петербург» написал москвич с Арбата Борис Николаевич Бугаев, типичный профессорский сынок. Петербург для него – чужой город, что в романе видно очень отчетливо, и многие коренные жители не могли ему этого простить. Ахматова, в частности, называла роман слишком московским, а Бродский, ссылаясь на ее авторитет, сказал, что Андрей Белый вообще плохой писатель, на что Игорь Сухих, профессор Санкт-Петербургского университета, деликатно заметил: других писателей у нас для вас нет.
Сразу нужно сказать, что обсуждать «Петербург» с точки зрения фабулы довольно бессмысленно. Фабула его легко пересказывается. В этом как раз принципиальная новизна этого романа и принципиальная новизна модернистской прозы вообще.
Вечный вопрос: с чего начинается модернистский роман? Можно, конечно, говорить, что модернистский роман посвящен обычно тем аспектам, которым традиционный реализм особенное внимание не уделял. Белинский, который отличался в этом смысле поразительной эстетической глухотой, писал, рецензируя петербургскую повесть Достоевского «Двойник»: «Фантастическое в наше время может иметь место только в домах умалишенных, а не в литературе». Общепринятая точка зрения сводится к тому, что модернистская проза с особенным сладострастием анализирует патологические состояния: бред, видения, сны, безумие и так далее. Это не совсем так. Да, действительно, модернизм пытается вытащить безумие, но на суд здравого ума прежде всего, потому что главная идея модернизма, ключевая идея модерна – это идея моральной ответственности, идея разума, которая анализирует собственные мании, фобии, девиации. Фрейд – проповедник моральной ответственности и строгого анализа; это и сделало модернистскую прозу кладезем или, если хотите, кладбищем девиации, патологии. Здравый рассудок, трезвая мысль, беспощадный самоанализ – вот основа модернистской прозы. Принципиальное же ее отличие от прозы остальной заключается не в выборе специальных тем, таких как любовные патологии или бреды, а прежде всего в том, что от литературы рассказывающей, то есть нарративной, модернизм переходит к литературе показывающей, где сюжет уже не столь важен, где автор вводит читателя в состояние героя. Точно так же и с «Петербургом». То, что происходит в «Петербурге», имеет некоторое значение с точки зрения мании, фобий самого Белого, которые он вытаскивает под собственный беспощадный взгляд, но сильна эта книга именно передачей состояний, и состояний довольно специфических.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
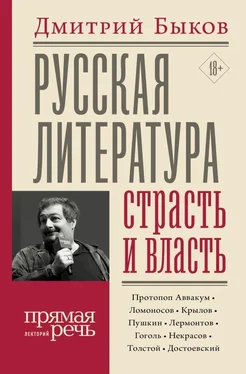



![Дмитрий Быков - Советская литература - мифы и соблазны [litres]](/books/398599/dmitrij-bykov-sovetskaya-literatura-mify-i-soblazn-thumb.webp)






