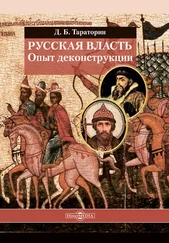Бунин, как никто другой из русских прозаиков, жаждет диалога с Богом. И как никто другой из русских поэтов, понимает, что этого диалога нет, что не будет ответа, что не к кому обратиться. И тогда поневоле возникает вопрос: каковы же ценности этого бунинского мира? Еще с «Антоновских яблок», первого его рассказа, обратившего на него внимание прессы, мы замечаем, как вырождается дворянство, как вырождается прелестный усадебный мир, который, может, и не был никогда особенно хорош, но теперь, среди этой грозной прелести, осенней прелести увядания, он действительно обретает какие-то прекрасные, почти титанические черты. Вырождается Россия, вырождается на глазах. Что происходит с общиной, Бунин рассказал в «Деревне». И рассказал так, что после этого у всех, читавших Чехова, последние иллюзии развеялись окончательно.
С любовью происходит та же самая история, потому что единственная доступная бунинским героям любовь – это «Солнечный удар»: встретились, все стремительно произошло, расстались навеки, а хорошо бы еще и застрелились оба, но это не всегда получается. Вот в «Деле корнета Елагина» вышло, а в «Солнечном ударе» просто постарели на десять лет. Всё абсолютно обманывает и гибнет. Что же остается спасительной ценностью?
И вот здесь, наверное, один из самых удивительных парадоксов Бунина. Бунин умер непримиренным. Бунин ушел, страшно боясь смерти, ненавидя смерть; его вдова, Вера Муромцева, вспоминала, что «на лице его был ужас человека, поглощаемого в ничто, как говорил он сам о смерти брата». Тем не менее на кровати его осталась раскрытая книга Толстого, и это было «Воскресение». Пожалуй, более символического конца нет в русской литературе. Человек, так боявшийся смерти, умер с таким явным знаком воскресения. Получается, что единственной абсолютной ценностью в бунинском мире – в страшном мире, который постоянно гибнет, чтобы никогда не возродиться, – единственной ценностью оказывается слово, а единственной задачей – постоянное, ни на секунду не прекращающееся, мучительное и счастливое творение этого мира заново. Единственная доступная радость, единственная доступная опора в бунинском мире – это воссоздание мира в максимальной точности и полноте с помощью слова.
Вспомним, как в «Жизни Арсеньева» герой, который переживает тяжелую любовную драму (а он там, собственно, ничего другого и не переживает), в пятой части, в знаменитой отдельно печатавшейся «Лике», вдруг испытывает внезапный приступ счастья. Ему удалось заметить, что в трактире крышечка чайника крепится на измочаленной мокрой веревочке, а у селедки, подаваемой в том же трактире, перламутровые щеки. И вот в эту секунду он ощущает какую-то внезапную остроту счастья, большую даже, чем любовное блаженство. Он почувствовал на секунду, что мир подчиняется ему, что можно с помощью этой мокрой веревочки и этого перламутрового существа воссоздать, удержать стремительно распадающееся, постоянно гибнущее – и на этом как-то удержаться.
Получается парадоксальный вывод: Бунин, которого мы привыкли числить по разряду усадебной прозы, привыкли считать наследником Чехова, Толстого, Тургенева, Достоевского, на самом деле не просто самый отъявленный модернист, но самый брутальный эстет в русской литературе. Для него никаких ценностей, кроме словесного искусства, не существует вообще. И если мы действительно возьмем вот эту жесточайшую поверку, которой Бунин подверг мир, мы узнаем, что уцелело от всего только одно:
Тебе сердца любивших скажут:
«В преданьях сладостно живи».
И внукам, правнукам покажут
Сию грамматику любви.
Уцелели четыре строчки, написанные на форзаце книги. Это все, что осталось от страстной любви барина к крепостной.
Лучший бунинский рассказ, мне кажется, – хотя, думаю, со мной мало кто согласится, – рассказ «Холодная осень», в котором совсем нет традиционной бунинской эротики, нет традиционной бунинской трагической любви, а есть просто элегическая скорбь. Это, кстати, единственный рассказ у Бунина, где появляется советский мир, где после революции героиня живет в подвале у торговки со Смоленского рынка, которая все время издевательски ее спрашивает: «Ну, ваше сиятельство, как ваши обстоятельства?» Бунинская «Холодная осень» еще нагляднее демонстрирует главную ценность его мира – страшный, я бы сказал, сардонический финал. Помните, когда героиня вспоминает последние слова жениха: «Ты поживи, порадуйся на свете, потом приходи ко мне…» «Я пожила, порадовалась, теперь уже скоро приду». Последнее, что осталось от жизни, – это четыре строчки:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
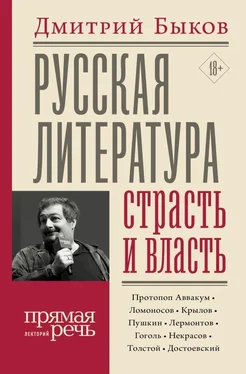
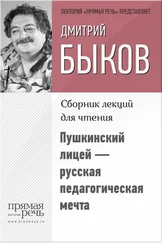


![Дмитрий Быков - Советская литература - мифы и соблазны [litres]](/books/398599/dmitrij-bykov-sovetskaya-literatura-mify-i-soblazn-thumb.webp)