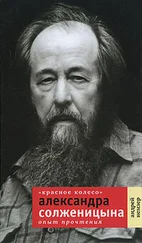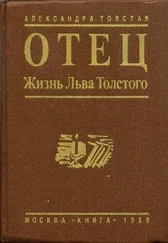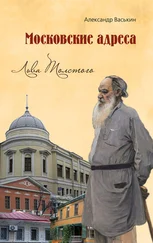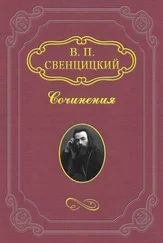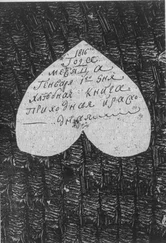Природа вложила в человека некоторые врожденные инстинкты, как то: чувство голода, половое чувство и т. п. и одно из самых сильных чувств этого порядка – чувство собственности. Нельзя любить чужое наравне со своим и нельзя обхаживать, улучшать землю, находящуюся во временном пользовании, наравне со своею землею. ‹…›
Вы мне всегда казались великим человеком, я про себя скромного мнения. Меня вынесла наверх волна событий – вероятно на один миг! Я хочу все же этот миг использовать по мере моих сил, пониманий и чувств на благо людей и моей родины, которую люблю, как любили ее в старину, как же я буду делать не то, что думаю и сознаю добром? А вы мне пишете, что я иду по дороге злых дел, дурной славы и, главное, греха. Поверьте, что, ощущая часто возможность близкой смерти, нельзя не задумываться над этими вопросами, и путь мой мне кажется прямым путем [76].
Столыпин уже пережил несколько покушений на свою жизнь, и Толстой мог оценить силу и серьезность убеждений своего корреспондента, но не принять его доводы. Предпочтение своего общему, как и упомянутое Столыпиным «половое чувство», казались ему силой, которую надо обуздывать, а не поощрять. Превращать ресурс, данный человеку Богом, в частную собственность значило, по Толстому, создавать «современное рабство», ничем, по сути, не отличающееся от крепостного права. Более того, такая политика противоречила, по его мнению, основам крестьянского миропонимания и могла быть реализована только с помощью насилия и принуждения, как когда-то петровские реформы. И все же риторика оппонента побудила его предпринять еще одну попытку. В январе 1908 года он уговаривал Столыпина задуматься о собственной душе:
За что, зачем вы губите себя, продолжая начатую вами ошибочную деятельность, не могущую привести ни к чему, кроме к[ак] к ухудшению положения общего и вашего? Смелому, честному, благородному человеку, каким я вас считаю, свойственно не упорствовать в сделанной ошибке, а сознать ее и направить все силы на исправление ее последствий. ‹…›
Очень может быть, что, как бы мягко и осторожно вы ни поступали, предлагая такую новую меру правительству, оно не согласилось бы с вами и удалило бы вас от власти. Насколько я вас понимаю, вы не побоялись бы этого, п[отому] ч[то] и теперь делаете то, что делаете, не для того, чтобы быть у власти, а п[отому], ч[то] считаете это справедливым, должным. Пускай 20 раз удалили бы вас, всячески оклеветали бы вас, всё бы было лучше вашего теперешнего положения. (ПСС, LXXVIII, 41, 43)
Письмо было подписано «любящий Вас Лев Толстой». В том же году он еще раз обратился к Столыпину с просьбой избавить от преследований группу крестьян. Столыпин снова согласился отдать необходимые распоряжения, но по существу отвечать не стал. Диалог был исчерпан. Как позднее признавался Толстой, было «ребячеством» с его стороны – надеяться, что правительство к нему прислушается. При этом он был рад, что написал императору и Столыпину: теперь он мог хотя бы быть уверенным, что «все сделал, чтобы узнать, что к ним обращаться бесполезно» [77]. И все же ему было не по себе от того, что он был так ласков с министром, который все больше выглядел в его глазах серийным убийцей.
Чтобы реализовать свои реформы, Столыпину нужно было подавить революцию, и он делал это со все возрастающей жестокостью. Юрисдикция военно-полевых судов была распространена на гражданских лиц, смертные казни, которые на протяжении полутора столетий оставались в России исключительной редкостью, стали повседневным явлением. Каждую неделю пресса приносила известия о новых повешениях и расстрелах.
9 мая 1908 года, прочитав один из таких репортажей, Толстой стал надиктовывать на граммофон свою статью «Не могу молчать», но эмоции захлестнули его с такой силой, что он не мог продолжать. Целый месяц после этого он отделывал текст одного из самых знаменитых воззваний в истории мировой публицистики. 4 июля 1908 года отрывки из него были помещены в нескольких газетах, которые все были за это оштрафованы.
Толстой начал статью с натуралистически бесстрастного описания повешения. Его негодование прорывалось лишь в точности воспроизведения самых ужасающих подробностей. Потом он перешел к рассказу о состоянии страны, которую захлестывает ненависть и в которой маленькие дети играют в теракты, экспроприации и казни. Осуждая любое насилие, он все же настаивал, что солдаты, повинующиеся приказам, террористы, рискующие собственными жизнями, и даже палачи, как правило темные и невежественные, но все же понимающие, что заняты презренным ремеслом, заслуживают большего снисхождения, чем хладнокровные и уверенные в своей правоте убийцы, которые посылают людей на казнь. В финале Толстой признал собственную нравственную ответственность за происходящее в России:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу