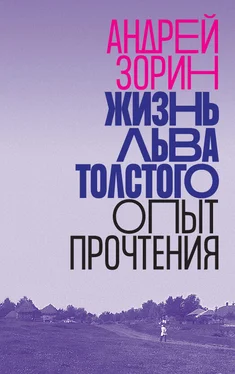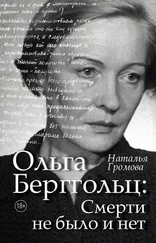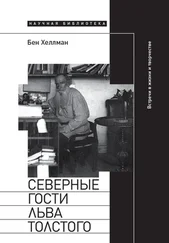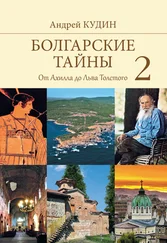Тем не менее он тяжело переживал известия о поражениях русской армии. Его дочь Татьяна вспоминала: узнав о том, что русские войска оставили Порт-Артур, отец сказал, что в его время крепостей не сдавали врагу, не взорвав их. Присутствовавший при этом разговоре и «задетый за живое словами своего учителя» толстовец заметил, что это привело бы к жертвам. «Что вы хотите? – ответил Толстой, – раз ты военный, ты должен исполнить свой долг» [75]. Как испытанный воин, он не мог без отвращения думать о капитуляции, как закоренелому перфекционисту ему претила плохо сделанная работа.
История повторялась. Как и в годы молодости Толстого, власти стремились укрепить разваливающийся режим «маленькой, победоносной войной», как выразился министр внутренних дел Плеве. Как и тогда, война оказалась долгой и кровопролитной. Россия потерпела поражение, а Плеве был убит террористами. В 1905 году в стране вспыхнула революция.
Подобно Хаджи-Мурату, который не мог найти свое место ни среди мятежников, ни среди русских, Толстой не мог встать на сторону ни одной из противостоящих друг другу партий, разрывавших Россию надвое. В 1906 году он напечатал свое «Обращение к русским людям, правительству, революционерам и народу», в котором предсказал, что государственная власть не сможет остановить революцию ни вынужденными уступками, ни новой волной полицейских репрессий:
Спасение ваше не в думах с такими или иными выборами и никак не в пулеметах, пушках и казнях, а в том, чтобы признать свой грех пред народом и постараться искупить его, чем-нибудь загладить его, пока вы еще во власти. (ПСС, XXXVI, 304)
Толстой не верил в политические реформы, важные, как он считал, только для ничтожного меньшинства. Его волновала ситуация в деревнях: по всей стране крестьяне жгли помещичьи дома и требовали перераспределения земли. Как правило, эти бунты происходили под руководством и контролем самых авторитетных членов общин. Физическое насилие было спорадическим и, учитывая масштабы беспорядков, его уровень, несмотря на массовую революционную агитацию, оставался относительно низким.
Впервые в жизни Толстой обрушился на революционеров не менее, если не более яростно, чем на правительство. Он обвинил их в готовности «не останавливаться ни перед какими преступлениями: убийствами, взрывами, казнями, междуусобной войной» – во имя неведомого будущего социального порядка, о принципах которого они не могли договориться даже между собой. С точки зрения Толстого, и правительство, и его противников объединяло презрение к простым людям и убежденность в своем праве навязывать им свои правила жизни:
Вы говорите, что вы делаете это для народа, что главная цель ваша – благо народа. Но ведь стомиллионный народ, для которого вы это делаете, и не просит вас об этом и не нуждается во всем том, чего вы стараетесь достигнуть такими дурными средствами. (ПСС, XXXVI, 306–307)
Толстой рассматривал революционный кризис как поворотную точку. Или противоборствующие стороны должны были одуматься и отойти от пропасти, или оргия кровопролития и разрушения становилась уже неизбежной. Несмотря на возраст и ухудшающееся здоровье, Толстой неустанно пропагандировал идеи мыслителя, оказавшего на него не меньшее воздействие, чем Руссо и Шопенгауэр.
Американский экономист Генри Джордж был одним из самых популярных социальных теоретиков второй половины XIX века. Его учение представляло собой синтез социалистических и либертарианских идей и имело в глазах Толстого необычайную привлекательность. Как и многие интеллектуалы того времени, Джордж стремился определить причины разительного контраста между бурным техническим прогрессом и растущей нищетой.
Самая знаменитая книга Джорджа «Прогресс и бедность» была издана в 1879 году и разошлась в миллионах экземпляров. Автор признавал частную собственность на продукты труда, но не на природные ресурсы, в особенности землю, которую рассматривал как неделимое достояние всего человечества. В то же время он не выступал за национализацию земли, предлагая вместо этого «национализацию ренты» в форме универсального земельного налога, устанавливаемого в зависимости от расположения и продуктивности надела. В «Прогрессе и бедности» Джордж доказывал с помощью вычислений, что такой налог, если его правильно рассчитать, приведет к выгодному для фермеров перераспределению земли, увеличит ее плодородие и позволит собрать достаточно доходов, чтобы отменить остальные налоги и поддерживать минимальную систему социальной защиты.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу