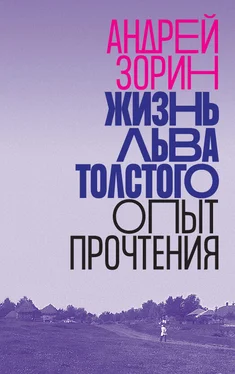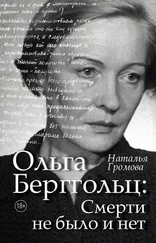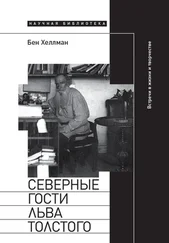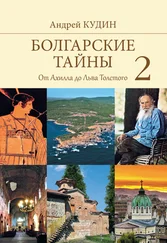– А что, – спросил я. – Уж ты прости меня, что я тебя спрашиваю, но, пожалуйста, скажи правду: или не отвечай, или всю правду скажи.
Он уставил на меня спокойный, внимательный взгляд.
– Отчего ж не сказать.
– Имел ты грех с женщиной?
Ни минуты не колеблясь, он просто отвечал:
– Помилуй Бог, не былó этого.
– Вот и хорошо, очень хорошо, – сказал я. – Радуюсь за тебя. (ПСС, XXXVIII, 35–36)
Толстой напечатал рассказ об этой встрече под заглавием «Из дневника». Через несколько дней он прибавил заключение и дал очерку новое название: «Благодарная почва». Полный текст появился в июле 1910 года:
Да, какая чудная для посева земля, какая восприимчивая. И какой ужасный грех бросать в нее семена лжи, насилия, пьянства, разврата. ‹…› Мы же, имеющие возможность отдать этому народу хоть что-нибудь из того, что мы не переставая берем от него, – что мы даем ему? Аэропланы, дреднауты, 30-этажные дома, граммофоны, кинематографы и все те ненужные глупости, которые мы называем наукой и искусством. И главное, – пример пустой, безнравственной, преступной жизни ‹…›.
Да, «горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». (Там же)
Это была его последняя прижизненная публикация.
Толстой никогда не был воинствующим технофобом. Он записывал свой голос на граммофон, присланный ему Томасом Эдисоном, вешал дома фотографии, ездил на велосипеде и на поездах. Он часто повторял, что в самих по себе железных дорогах нет ничего ни хорошего, ни плохого, вопрос в том, куда и зачем по ним ездить. Современность, с его точки зрения, не выдерживала этого экзамена. Он знал, что встреченному им молодому крестьянину не на что рассчитывать, даже если он сумеет сохранить трезвость и будет вести воздержанную жизнь. Долгие десятилетия Толстой сражался с превосходящими силами истории. Он никогда не сдавался, но сейчас он понимал, что для него настала пора покинуть поле боя.
Глава четвертая
Беглая знаменитость
Со времени, когда восемнадцатилетний Толстой внезапно бросил Казанский университет и уехал в Ясную Поляну, его жизнь была полна разрывов, отъездов и отказов. Он вышел в отставку с военной службы, перестал преподавать в школе и прекратил заниматься делами своего имения. Он отверг сначала разгульную жизнь, которую вел в молодости, а потом образ жизни богатого помещика. Он отказался от православной церкви и социальной среды, к которой принадлежал. Он несколько раз порывался бросить литературу, хотя так и не сумел довести это до конца.
В октябре 1864 года, во время охоты Толстой упал с лошади и сломал руку. Вмешательство тульских докторов оказалась неудачным, и скоро стало ясно, что операции не избежать. Ее делали в Москве в доме Берсов: тесть писателя имел возможность пригласить самых лучших хирургов. По воспоминаниям Татьяны Кузминской, получив первую дозу анестезии, Толстой «вскочил с кресла, бледный, с открытыми блуждающими глазами, откинув от себя мешочек с хлороформом, он в бреду закричал на всю комнату: Друзья мои, жить так нельзя… Я думаю… Я решил» [78]. Ему дали еще дозу, он заснул, и операция прошла благополучно.
Что Толстой «решил», находясь в бреду, так и осталось неизвестным, но чувство, что «жить так нельзя», в любом случае было для него определяющим. Он постоянно рвался освободиться от связывающих его уз, и чем болезненнее был разрыв, тем отчаяннее его тянуло вырваться. В жизни для него не было ничего важнее семьи – несмотря на это или именно поэтому жажда побега владела им даже в счастливейшие периоды его семейной жизни.
В начале 1880-х, когда он последовательно отказывался от церкви, собственности, денег, мяса, курения, алкоголя и т. д., стремление уйти из дома приобрело у него навязчивый характер. «Он сегодня громко вскрикнул, что самая страстная его мысль о том, чтоб уйти из семьи. Умирать буду я – а не забуду этот искренний его возглас, но он как бы отрезал от меня сердце» (СТ-Дн., I, 108), – написала в дневнике Софья Андреевна 26 августа 1882 года.
Толстой ощущал почти физиологическую потребность оставить за спиной положение знаменитого писателя и барскую жизнь и влиться в поток бездомных бродяг, живущих плодами дневных трудов или подаянием добрых людей. Один из молодых последователей как-то спросил его, где ему придется ужинать, если он станет буквально следовать наставлениям учителя. «Кому вы будете нужны, тот вас и прокормит» [79], – ответил Толстой. Он был уверен, что неспособность Софьи Андреевны понять эти его настроения свидетельствует о том, что она просто не любит его. 5 мая 1884 года он записал в дневнике:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу