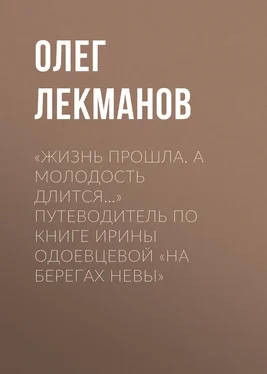(400, с. 53–55)
С. 389 …единственной женщине в Цехе поэтов. – Ада Оношкович-Яцына тоже была членом “Цеха поэтов”. См. с. 491.
С. 390 …сметь / Свое суждение иметь. – Реплика Молчалина из “Горя от ума”: “В мои лета не должно сметь / Свое суждение иметь” (112, с. 57).
С. 390 Н. Оцуп старался после смерти Гумилева… – …и его последних днях. – Сравните еще в одном варианте воспоминаний О.: “…я хочу немного поправить Н. Оцупа, который написал, что Гумилев поручил ему составить второй «Цех поэтов». Это было бы совершенно невероятно, потому что Гумилев страшно держался за власть и никого не подпустил бы на пушечный выстрел к своим правам, как он их понимал. А в последние годы Оцуп даже не был больше другом Гумилева, потому что он способствовал однажды тому, что председателем Союза писателей выбрали Блока, а не Гумилева. Позднее Г. Иванов с помощью одного голоса (он просто подцепил кого-то на улице) восстановил председательство Гумилева” (288, с. 206).
Напомним, что 4 июля 1920 г. Оцуп вошел в правление “блоковского” Союза поэтов (см. с. 541). О пропаганде им творчества Гумилева на Западе см. с. 520.
Адамович, Г. Иванов и О. при жизни Оцупа не позволяли себе насмешек над ним в печати, однако все трое относились к Оцупу и его амбициям весьма иронически. Приведем здесь несколько соответствующих выдержек из писем Адамовича к О.
Из письма от 18 декабря 1955 г.: “…нашел письмо от Гингера с приглашением к ним в среду, где Оцуп у них собирается делать доклад о поэзии! По-моему, он чувствует, что впал в ничтожество, и хочет опять доминировать, не так, так иначе” (424, с. 422).
Из письма от 20 января 1956 г.: “Из литературных событий был доклад Оцупа у Гингеров: высокопарная чепуха, со ссылками ежеминутно на Пушкина и Гумилева, двух главных мэтров <���…>. Оцупу дали понять (Гингеры), что слишком все бессвязно, он будто бы все «переработает». Он лыс, как колено, благосклонно-важен и элегантно-мил” (там же, с. 426).
Из письма от 16 декабря 1957 г.: “…было тайное желание, нереализованное, вновь объединиться, собрать Цех, чтобы Вы были с бантом, а Оцуп плел какую-нибудь чушь, все как прежде” (там же, с. 459).
Из письма от 10 января 1958 г.: “Встретил на лестнице metro Оцупа, в черных очках, леденяще-вежливого, но на мысль мою устроить цех с бантом на Вас он чуть-чуть размяк” (там же, с. 465).
Из письма от 14 июля 1958 г.: “В сущности, мне этого болвана жалко, как на старости лет всех людей на свете. Я бы ему написал об этом письмо, но уверен заранее, что ничего из этого не выйдет, и потому писать не буду” (там же, с. 492).
С. 390 Не Царское Село – к несчастью, / А Детское Село – ей-ей! – Царское Село было переименовано в Детское Село 20 ноября 1918 г. по решению Совета комиссаров Союза коммун Северной области в связи с тем, что здесь были размещены детские трудовые колонии.
С. 391 “По словам покойного Н.А. Оцупа… – …(о Царском Селе)…” — О. цитирует примечание в издании: 122, т. 2, с. 334.
С. 391 …на квартиру на Преображенской улице, 5, куда он переехал из квартиры Маковского в начале 1919 года. – Уезжая весной 1917 г. в Крым, Маковский оставил свою петроградскую квартиру (ул. Ивановская, д. 26/65, кв. 15) “аполлоновцам” (355, т. 2, с. 552–553). После возвращения в Россию, 3 мая 1918 г. там прописался Гумилев (352, с. 405). В квартиру на Преображенской улице, д. 5 Гумилев с семьей переехал 4 апреля 1919 г. (там же, с. 411).
С. 391 “Живое слово” выезжало летом на дачу в Царское не в 1921, а в 1919 го-ду. – …за отсутствием слушателей. – Летом 1919 г. часть групп Института живого слова “по искусству речи, пению, роялю и иностранным языкам продолжала работать. В Детском селе (бывшем Царском) устроили «летнюю колонию» для слушателей и вспомогательные Летние курсы. «Колония» начала работать с 20 июля. В ней постоянно проживали около 80 студентов Института. Некоторые студенты приезжали на занятия Курсов” (36, с. 123). Летом 1920 г. институт выезжал в город Зубцов Тверской губернии (там же, с. 136). Летом 1921 г. институт никуда не выезжал.
В 1920 г. Гумилев вместе с М. Лозинским руководил в Институте живого слова студией поэзотворчества (там же, с. 145). Однако и чтение лекций Гумилев в 1920 и 1921 гг., судя по всему, в институте продолжал. Сравните во всяком случае с общим названием конспектов лекций, составленных неизвестным слушателем и сохранившихся в архиве П.Н. Лукницкого: “Лекции Н.С. Гумилева по курсу «Теория поэзии» (Институт Живого Слова, 1919–1921 гг.)” (148, с. 76).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу