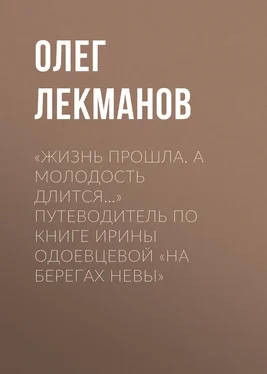Дважды два четыре,
Два и три и пять,
Вот и все, что нужно,
Что нам нужно знать!
(186, с. 146–147)
О. почти наверняка переняла ложное представление об этих строках как о квинтэссенции творчества и жизненной программы Кузмина у Г. Иванова, который многократно цитирует их в мемуарах. Сравните, например: “Кузмин провозглашал свою «прекрасную ясность»: «Дважды два – четыре…»” (157, т. 3, с. 602).
С. 224 …то о Рильке, то о Леопарди, то о Жераре де Нервале, то о Гриммельсхаузене… – Перечисляются имена австрийского поэта Райнера Марии Рильке (Rainer Maria Rilke; 1875–1926), итальянского поэта Джакомо Леопарди (Giacomo Leopardi; 1798–1837), французского поэта Жерара де Нерваля (Gе́rard de Nerval; 1808–1855) и немецкого прозаика Ганса Якоба Кри́стоффеля фон Гриммельсга́узена (Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen; ок. 1622–1676). Ни один из них ни разу не упоминается в стихах и статьях Мандельштама, хотя поэт, разумеется, и мог испытывать интерес к этим авторам и рассказывать о них О. В частности, возможное влияние поэзии Жерара де Нерваля на Мандельштама рассмотрено в специальной статье: 374, с. 420–447. Отметим, что в журнальной публикации фрагментов НБН набор имен был чуть иным. Там рассказывается, что Мандельштам “будто случайно” заводил “разговор то о Рильке, то о Новалисе и Тике, то о Гримельсхаузене” (273, с. 78).
С. 224 Так, это он открыл мне, что последние строки “Горе от ума” – перевод последних строк “Мизантропа”. И что… Алцест не так уж решительно и навсегда порывает со “светом”. — Сопоставление Чацкого с героем комедии Мольера “Мизантроп” Альцестом делалось уже первыми читателями “Горя от ума”. Так, М. Дмитриев в 1825 г. отмечал, что Чацкий – это “мольеров Мизантроп в мелочах и в карикатуре” (128, с. 113). Подробно эти два произведения в 1881 г. соотнес А.Н. Веселовский (79, с. 91–112).
С. 224 …сам великий литспец (слова “литературовед” тогда еще не существовало)… – Хотя дефиниция “литературовед” эпизодически употреблялась русскими исследователями уже в конце XIX в.; в частности, ее можно найти в книге А.И. Соболевского 1890 г. (341, с. 16), “широко привился этот термин <���…> в русском употреблении примерно с 1924–1925 гг.” (397, с. 477). Нужно отметить, что определение “литспец” использовалось в эту же эпоху, только, в отличие от “литературоведа”, воспринималось оно как специфически “советское”. Сравните, например, с характерной игрой слов в статье Ю. Либединского 1923 г.: “«Родовы и Лелевичи» великолепно знают, что орудовать в литературе аналогиями, добытыми из хозяйства и военного дела, нельзя, и знают, что если партия по отношению к воен- или хозспецу ведет одного типа политику, то по отношению к « литспецу » (в каковой чин тов. Воронский, очевидно, произвел Толстого, Ходасевичей, Пильняков и проч.) вести такую же политику она не может” (206, с. 59).
С. 224 От Мандельштама же я узнала, что лозунг “Мир хижинам, война дворцам” принадлежит не Ленину, а Шамфору. – О том, что лозунг “Paix aux cabanes, guerre aux palais!” был впервые сформулирован Себастьеном-Рок Никола де Шамфором (Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort; 1741–1794) можно узнать из биографической статьи о нем А.А. Смирнова, помещенной в известном энциклопедическом словаре Гранат в 1910 г. (423, с. 77). Ленин использовал этот лозунг в финале статьи “О мире без аннексий и о независимости Польши, как лозунгах дня в России” 1916 г. (203, с. 249).
С. 225– Знаете, я с детства полюбил Чайковского… – …кубарем по лестнице. – Этот монолог представляет собой беззастенчивый монтаж из нескольких фрагментов двух прозаических вещей Мандельштама – его “Шума времени” (1923) и “Египетской марки” (1927). Приведем здесь эти фрагменты.
“Рижское взморье – это целая страна. <���…>
В Дуббельне, у евреев, оркестр захлебывался патетической симфонией Чайковского, и было слышно, как перекликались два струнных гнезда.
Чайковского об эту пору я полюбил болезненным нервным напряжением, напоминавшим желание Неточки Незвановой у Достоевского услышать скрипичный концерт за красным полымем шелковых занавесок. Широкие, плавные, чисто скрипичные места Чайковского я ловил из-за колючей изгороди и не раз изорвал свое платье и расцарапал руки, пробираясь бесплатно к раковине оркестра. <���…>
В двух словах – в чем девяностые года. – Буфы дамских рукавов и музыка в Павловске; шары дамских буфов и все прочее вращаются вокруг стеклянного Павловского вокзала, и дирижер Галкин – в центре мира.
В середине девяностых годов в Павловск, как в некий Элизий, стремился весь Петербург. Свистки паровозов и железнодорожные звонки мешались с патриотической какофонией увертюры двенадцатого года, и особенный запах стоял в огромном вокзале, где царили Чайковский и Рубинштейн” (“Шум времени” —см.: 226, т. 2, с. 69, 70, 45–46).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу