Открытые метафоры, открытая символизация оказывается неприемлемой не только в творчестве адептов «Догмы». В «Любви» (Amour, 2012) Михаэля Ханеке весьма показательна сцена с голубем, случайно залетевшим в квартиру, где болеет и медленно умирает пожилая дама. Ее муж прилагает усилия для того, чтобы поймать птицу и выпустить ее обратно на улицу, освободить из невольного заточения. Герой берет плед, пытается набросить на голубя. Движения старика абсолютно бытовые, прозаические, в них читается и старческая затрудненность движения, и осторожность, рожденная пониманием того, что голубь может испугаться и что ловить его трудно. Ханеке как бы всеми средствами говорит: «Голубь – это не символ, это несчастная глупая птица».
В контексте киноповествования «Любви» появление голубя перекодируется в ненужный, несвоевременный символ, бытовое осложнение и без того тяжелой ситуации. Здесь умирает человек, жизнь строится по непреложным законам материи, и никакие философские напластования, никакая многосложная семантизация образов не нужна для отображения боли человеческого существования, мучений ухода и близящейся утраты. Фигура голубя воплощает невозможность человека жить «высокой» духовной жизнью. Состояние тела отменяет классические культурные смыслы, десемантизирует символические образы, разрушает духовную материю.
Если «Догма» настаивала на присутствии в фильме лишь сюжетно оправданной, или «внутрикадровой» музыки, то есть музыки, звучащей в самом мире героев, то современное кино склонно к такому же «бытовому» закреплению элементов метафоризации или философствования в мире повседневного взаимодействия героев. В «Комнате сына» (La stanza del figlio, 2001) Нанни Моретти подчеркнуто, прозаически показано то, как недавно счастливая и благополучная семья переживает внезапную гибель сына. Он утонул на одном из занятий подводным плаванием, не найдя в себе сил бороться с технической неисправностью экипировки. Сестра погибшего мальчика заказывает мессу, на которой священник произносит весьма неудачную речь. После нее Джованни, отец утонувшего, сидит у себя на кухне с женой, даже не пытаясь скрыть своего раздражения и отчаяния – тяжело услыхать нелепости и банальности вместо слов утешения. Будучи вне себя, Джованни начинает пристально разглядывать посуду, Отмечает, что у пепельницы отбит край – «Надо ее убрать». А вот красивая ваза, но у нее перекошено горлышко. А вот чайник, любимый чайник Джованни. Он был разбит, потом его склеили, но он все равно остается разбитым. Джованни расхаживает по кухне, берет в руки то одну вещь, то другую. В отчаянии он отмечает, что у них много красивой посуды. Но у каждого предмета есть трещинка или выщербленный край.

«Комната сына», 2001. Авторы: режиссер и сценарист Нанни Моретти; сценаристы Линда Ферри и Хайдрун Шлеф; композитор Никола Пьовани
В состоянии красивой посуды Джованни видит аналогию с состоянием членов своей семьи и говорит об этом вслух. Да, они все здесь хорошие, милые, добрые, умные, но в них есть какой-то изъян, какая-то опасная проблема, лишающая их жизнеспособности, сопротивления трудностям. Речь эта вполне органична для героя, ведь он психоаналитик, следовательно, способен к рефлексии о себе и своих проблемах.
Еще более символично то, что в другом эпизоде, во время приготовления еды, стеклянная емкость для тушения овощей просто разламывается на плите пополам. Как будто посуда услыхала речи Джованни и решила и далее воплощать состояние семьи. Герой видит разломившуюся миску, выключает газ, немного поправляет одну из половинок посудины – и больше ничего не делает. Как и в жизни, он не способен изменить ход событий, преодолеть свои или чужие психологические сложности.
Символически выглядит и то, что Джованни решает оставить свою работу, чувствуя, что не в силах помочь никому из своих пациентов. Также весьма показательно и то, что не крупные планы каких-либо объектов и вообще не повышенное внимание телоглаза к чему-либо в поле его зрения создают символическое поле картины, а драматические ситуации, диалоги героев. Визуально же ничего не акцентируется, сохраняется визуальная нейтральность.
Вера в правомерность сверхчеловеческой свободы киноглаза всего лишь поколебалась и стала неабсолютной в последние несколько десятилетий. Вера в эмоционально-интеллектуальную мощь авторского видения, способного выдать вызывающую доверие картину мира, разрушилась гораздо радикальнее. В открытой метафоричности и ретроспекциях сегодня кино склонно подозревать склонность автора к самолюбованию, к благодушной увлеченности творчеством, к опасному отрыву от «тела реальности» и чрезмерной зацикленности на своем личном мире. А кто сказал, что этот мир должен быть всем априори интересен? У современного кино нет веры в то, что внутренний мир автора-режиссера имеет высокую ценность, несет в себе незаурядную значимость, как-то корреспондирующую с мирами героев и зрителей.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
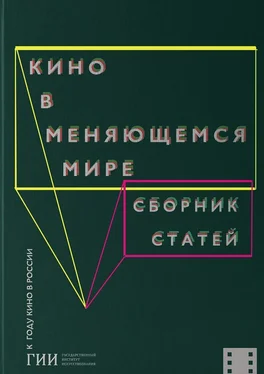




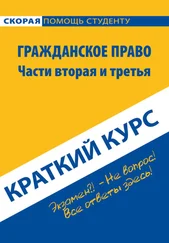
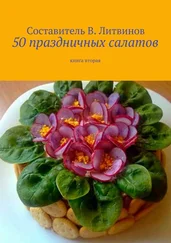

![Коллектив авторов - Гражданское право. Части вторая и третья. Краткий курс [litres]](/books/404815/kollektiv-avtorov-grazhdanskoe-pravo-chasti-vtoraya-thumb.webp)




