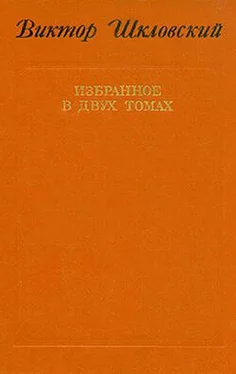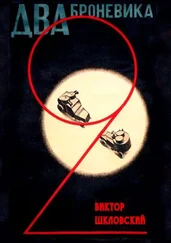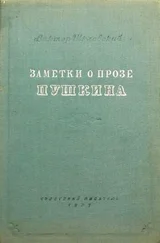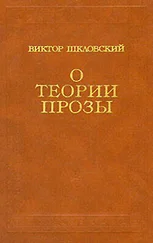У Толстого есть такая сцена: из лавки вышел человек, присел и начал что-то делать с камнями.
Что он делал — нельзя было понять. Но, подойдя, Толстой увидел, что человек о камни точил нож.
Не камни были нужны, а острота ножа.
Сюжетный анализ, система образов нужны писателю для восстановления ощущения мира, для нового миропознания, для выявления его сущности. И тогда, когда художник любуется цветом или словом, то он любуется частью мира, введенной в познание. Когда он увлекается языком, то он это делает потому, что слово ведет его к мысли.
Я могу сказать и не одному только Честертону, что не надо сидеть скорчившись и щупать камни.
Не камни Лондона интересовали Диккенса, не туманы, не смешные детали, а прежде всего неуютность жизни бедняков.
Он точил нож для того, чтобы разрезать привычные связи вещей, вернуть англичанину удивление, вернуть ему ощущение времени и ощущение неустроенности мира.
Гегель в «Лекциях по эстетике» (книга первая), анализируя «идею прекрасного в искусстве», разбирает и вопрос «прекрасного в природе», — здесь он отмечает единство «формы и сущности».
«Следовательно, теперь у нас осталась в качестве красоты природы лишь одушевленная внутри себя связь, обнаруживающаяся в соразмерной понятию определенности природных образований. С этой связью непосредственно тождественна материя, а форма как истинная сущность и образующая сила материи непосредственно имманентна ей. Это дает нам всеобщее определение красоты на данной ступени. Так, например, нас восхищает природный кристалл своей правильной формой, которая порождается не внешним механическим воздействием, а собственным внутренним определением и свободной силой, порождается свободно самим же предметом. Внешняя ему деятельность как таковая тоже могла бы быть свободной, однако в кристаллах формирующая деятельность является не чужеродной объекту, а такой деятельной формой, которая принадлежит этому минералу согласно его собственной природе» [43] Г.-В.-Ф. Гегель. Эстетика в 4-х томах, т. 1. М., «Искусство», 1968, с.139–140.
.
Прекрасное в искусстве также сформировано по внутренним законам, свойственным самой сущности. Творчество в искусстве начинается с ограничения материала изображения и затем в придании ему формы, выражающей его сущность.
Жизнь бесконечно разнообразна, но художественная проза, поэзия и драматургия при отборе материала, сущность которого может быть выражена так, чтобы в ней были отражены законы общего, ограничена в отборе, хотя и борется с этим ограничением.
Аристотель в «Поэтике», разбирая типичные построения, пишет: «…прежде поэты. отделывали один за другим первые попавшиеся мифы, ныне же лучшие трагедии слагаются в кругу немногих родов…» [44] Аристотель. Об искусстве поэзии, с. 80.
Мифология составляет почву, на которой развивалось греческое искусство, но возделывались на этой почве определенные участки, на которых часто принуждены были встречаться не только трагики, но и художники, создающие статуи или расписывающие вазы.
Об ограничении сферы показа и ограничении в выборе героев Гегель писал, считая многие ограничения в выборе коллизии неизбежными; «Ибо разумный человек должен покоряться необходимости, если он не может силой заставить ее склониться перед ним, то есть он должен не реагировать против нее, а спокойно переносить неизбежное. Он должен отказаться от тех интересов и потребностей, которые все равно не осуществятся из-за наличия этой преграды, и переносить непреодолимое с тихим мужеством пассивности и терпения. Где борьба ни к чему не приводит, там разумным будет избегать борьбы, чтобы сохранить по крайней мере возможность отступления в последнюю твердыню, в формальную самостоятельность субъективной свободы. Тогда сила несправедливости уже не имеет больше власти над ним, в то время как, сопротивляясь ей, он сразу же испытывает всю меру своей зависимости. Однако ни эта абстракция чисто формальной самостоятельности, ни безрезультатная борьба против непреодолимой преграды не являются истинно прекрасными» [45] Г.-В.-Ф. Гегель. Эстетика в 4-х томах, т. 1, с. 220.
.
Авторы искали выхода из таких коллизий, например рабства, преодолеванием через узнавание (Дафнис и Хлоя в античном романе оказываются свободнорожденными, случайно попавшими в рабство).
В буржуазном романе коллизия, основанная на бедности или на принадлежности героя к «низшим классам», преодолевалась показом незаконнорожденного, которого наконец признают его родственники. Происходит сужение коллизии. Возникают топы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу