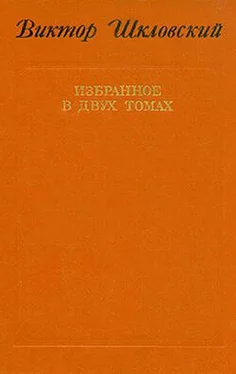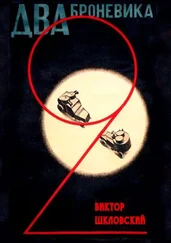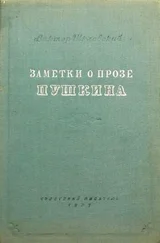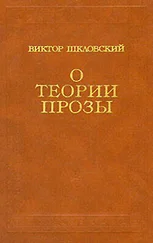Пушкин решил снять подпись Гоголя под статьей «О движении журнальной литературы…». Это было очень трудно сделать, потому что цензурная подпись на номере уже была. Было перебрано оглавление и страницы 318 и 319 первого тома.
Никто не узнал, что статья написана Гоголем, тем самым она оказалась редакционной, и вызвала еще больше нападок, но не против Гоголя. Со своим сотрудником Гоголем Пушкин не говорил, и сотрудник обиделся.
В третьей книге «Современника» было напечатано «Письмо к издателю», подписанное «А. Б.», письмо пришло будто бы из Твери. Город Тверь — это условная уважаемая провинция. Письмо написано как будто бы посторонним человеком, но не из глуши. Письмо на самом деле написано Пушкиным. В письме говорится, что статья «О движении журнальной литературы…», написанная «с юношеской живостью и прямодушием», не является программой «Современника».
Статья Пушкина названа письмом и подписана первыми буквами алфавита — все это очень условно, но не является капитуляцией. Все написано с добродушной снисходительностью, очень иронической. За противником «Библиотеки для чтения» признаются не литературные достоинства: свежесть, сметливость, аккуратность. У Пушкина неожиданно выплывает имя Белинского. О Белинском говорится с уважением.
Так сложна история появления большой статьи Гоголя в «Современнике» и пушкинского разъяснения к ней.
Петербург оказался еще страшнее, чем думал Гоголь, который так и не узнал до конца, какой старший товарищ был у него в этом городе и как он его сберег.
Ссора не была закреплена, но произошло охлаждение, Старший друг говорил с младшим о многом, но не о том, что он его сберег и защитил.
В «Арабесках» напечатаны «Несколько слов о Пушкине» и «О малороссийских песнях»; эти статьи связаны не только произволом молодого автора, смешавшего в одном сборнике научные статьи, повести и этнографию.
Статья Гоголя о Пушкине в «Арабесках» предопределяет наше понимание Пушкина; в ней законспирированы и будущие высказывания Гоголя, и многое из статей Белинского.
Ироничность пушкинских отступлений в «Евгении Онегине» дала нам гоголевские лирические отступления.
Может быть, от Пушкина идет и резкая характерность — выделенность гоголевских деталей.
Метонимичность пушкинских описаний помогла Гоголю понять народные песни.
В «Арабесках» Гоголь написал в статье «О малороссийских песнях», что в них природа едва скользит, «…но тем не менее черты ее так новы, тонки, резки, что представляют весь предмет»… И дальше; «Часто вместо целого, внешнего находится только одна резкая черта, одна часть его» [86] Н. В. Гоголь, т. VIII, с. 94.
.
Статья «Взгляд на составление истории Малороссии» — это история, ландшафт, спор о казачестве, в котором Гоголь видел «зародыш поэтического тела» и предвещание «Тараса Бульбы». Это разговор об Украине, жаркий и скрытный.
Здесь есть и некоторое несогласие с пушкинской «Полтавой».
После прочтения Пушкина Гоголь заново перечел и передумал все.
Сам Гоголь о своей творческой связи с Пушкиным писал вдохновенно и не точно. В тяжелом кризисе после появления «Выбранных мест из переписки с друзьями», в оправданиях, полных сомнений и гордости, в «Авторской исповеди» Гоголь пересмотрел все свое прошлое.
Гоголь захотел видеть смысл своего отношения к Пушкину в том, что он его прямой наследник, призванный им от малых дел к великим.
«…Пушкин заставил меня взглянуть на дело сурьезно. Он уже давно склонял меня приняться за большое сочинение и, наконец, один раз, после того как я ему прочел одно небольшое изображение небольшой сцены, но которое, однако ж, поразило его больше всего мной прежде читанного, он мне сказал: „Как с этой способностью угадывать человека и несколькими чертами выставлять его вдруг всего, как живого, с этой способностью не приняться за большое сочинение! Это просто грех!“
Вслед за этим он начал представлять мне слабое мое сложение, мои недуги, которые могут прекратить мою жизнь рано; привел мне в пример Сервантеса, который, хотя и написал несколько очень замечательных и хороших повестей, но если бы не принялся за Донкишота, никогда бы не занял того места, которое занимает теперь между писателями, и, в заключение всего, отдал мне свой собственный сюжет, из которого он хотел сделать сам что-то вроде поэмы и которого, по словам его, он бы не отдал другому никому. Это был сюжет Мертвых душ. Мысль Ревизора принадлежит также ему» [87] Там же, с. 439–440.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу