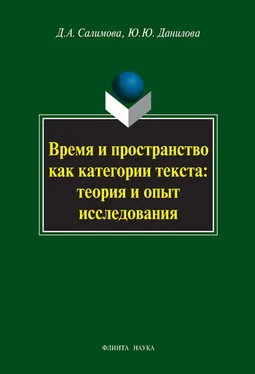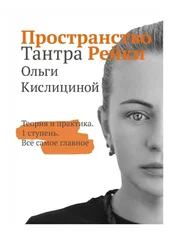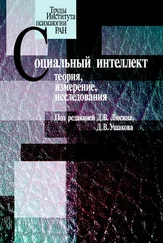Поэма воздуха, 1927
Неодолимый – прострись, пространство!
Крови толчок
Ахилл на валу
Или же это путь и преграды впереди:
В этих строках глагол-окказионализм прострись использован не только для идеальной рифмовки с пространством, но и, вероятнее всего, для акцентуации и интенсификации семы «значительное, но неприемлемое».
В стихотворении-обращении к умершему Блоку «Брожу – не дом же плотничать.»:
С молоком кормилицы рязанской
Он всосал наследственные блага:
Триединство Господа и флага,
Русский гимн – и русские пространства.
Здесь выделенное слово означает ширь, просторы, является синонимом словосочетанию «русские широты».
Стихотворение «Наука Фомы» (1923), написанное в загадочном стиле как нравоучение-наука, являет собой образец соединения в одну лексему пространство с семой 'неизвестность' обобщающего указания и отрицания (не здесь – нигде – в пространство):
Круги на воде.
Ушам и очам –
Камень.
Не здесь– так нигде.
В пространство, как в чан
Канул.
Слово-концепт пространство включено и в стихотворение «Страна» (1931):
С фонарем обшарьте
Весь подлунный свет!
Той страны на карте –
Нет, в пространстве– нет.
Боль за страну, которой нет теперь на всем свете, выражается двойным отрицанием, имеющим посередине это слово «пространство», т.е. здесь пространство имеет самое емкое из типов значений.
Лексема место как заместитель слова пространство встречается гораздо реже: например, в «Стихах к Чехии» (1938) 3-я часть начинается:
Есть на карте – место:
Выглянешь – кровь в лицо!
Бьется в муке крестной
Каждое словцо.
Жир, Иуду – чествуй!
Мы же – в ком сердце – есть:
Есть на карте место
Пусто: наша честь.
Идеальные рифмы и ритмика, музыкальность слогов: есть-честь, место-пусто-есть, придавая диссонанс в душе поэта, усиливают горечь, тоску по тому краю, где бьется каждое словцо. Это и Чехия, и далекая родина поэта и сына, и – самое главное – внутренний мир самого поэта, где иногда бывает так «пусто».
В «Поэме горы»
Да не будет вам местазлачного,
Телеса, на моей крови!
– Да не будет вам счастьядольнего,
Муравьи, на моей горе!
Появление слов место и счастье в одном и том же валентном окружении, усиленном еще и применением фразеологической единицы «злачное место», есть возведение этих понятий в единый ранг: место и счастье вместе, счастье там, где мое место. Что впереди? – этот вопрос автор поставил еще в одном из самых ранних стихотворений «В пятнадцать лет» (1911). Впереди – это слово использовано, точнее, интерпретируется и в пространственном (пути-дороги, которые нас ждут), и временном значениях (в дальнейшем). Место свое поэт видит то очень высоко (у горных звезд) и далеко, пространственная отдаленность передается не только в смысловом плане, но и позиционном: предлог со удален от своего существительного место на целых две строки:
Даль, отдалившая мне близь,
Даль, говорящая: «Вернись
Домой!»
Со всех – до горных звезд —
Меня снимающая мест!
Родина, 1932
В стихотворении «Куст» (1934) слова место-пусто-куст перерастают в слова-концепты:
Что только кустом не пуста:
Окном моим всех захолустий!
Что, полная чаша куста,
Находишь на сем – месте пусте?
Архаичная форма склонения ныне не изменяющегося по падежам краткого прилагательного пустой – пусте – этот куплет не только есть хрестоматийный пример игры словом и звукорядов (сем – месте; кустом – пуста и т.д.), это прежде всего раздраженный крик автора, ищущего свое место в жизни, а значит и себя.
Наречные конструкции как основные экспликаторы локативных отношений
Пространственная картина мира поэта, как и временная, выстраивается, в первую очередь, широким использованием локативных лексем. Уже в ранних стихотворениях мы обнаруживаем слова со значением пространства, своеобразные локативы, для которых нехарактерно значение конкретного места, лексемы же с обобщающим, определяющим значением, вопросительные слова представлены в самых различных вариантах:
В слободах моих – междуцарствие,
Чернецы коварствуют.
Всяк родится в одежды царские,
Псари – царствуют.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу