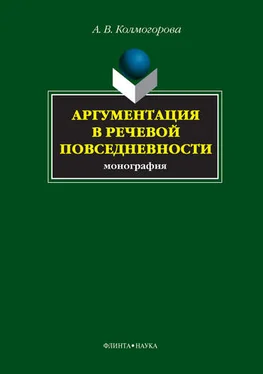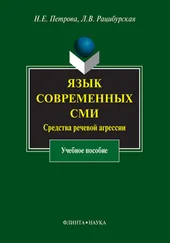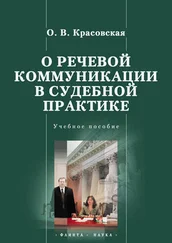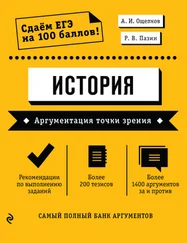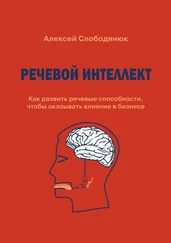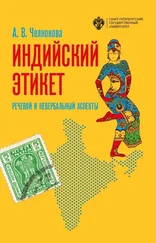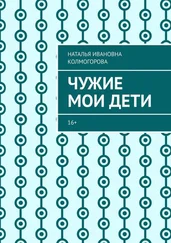Но парадокс в том, что именно модели коммуникации (т.е. не предусматривающего обязательного участия людей обмена информацией) долгое время использовались для изучения и моделирования речевого общения. Так, длительное время среди лингвистов была популярна так называемая информационно-кодовая модель коммуникации Шеннона-Уивера (Shannon, Weaver 1949). Эта модель демонстрирует возможности воспроизведения информации на другом конце цепочки благодаря процессу коммуникации, осуществляемому посредством преобразования сообщения, неспособного самостоятельно преодолеть расстояние, в сигналы кода, которые можно транслировать. Шум и помехи в канале могут исказить сигнал и даже перекрыть его. Если канал чист, успех коммуникации зависит от эффективности работы (де)кодирующих устройств и идентичности кода на вводе и выводе. Будучи переложена на модель речевой коммуникации, данная схема подразумевает, что говорящий кодирует свои мысли при помощи фонем в устной речи и графем – в письменной, а слушающий затем с той или иной мерой успешности декодирует данное сообщение, извлекая из него с той или иной степенью полноты закодированную отправителем информацию. Недостатки данной модели отмечаются многими лингвистами (Макаров 2003; Дементьев 2006; Тарасов 2006; Schiffrin 1994). М.Л. Макаров, критикуя данную модель, отмечает, что она «покоится на фундаменте примитивной интерсубъективности: цель коммуникации – общая мысль, или, точнее, сообщение; процесс достижения этой цели основан на существовании общего кода. И то и другое предполагает большую роль коллективного опыта: идентичных языковых знаний, предшествующих коммуникации» (Макаров 2003: 35). Такая «примитивная интерсубъективность» берет свое начало в античной философской мысли, продолжается в парадигме картезианства и находит свое выражение в таких влиятельных лингвистических направлениях, как структурализм и генеративная лингвистика. Так, Р. Декарт писал в свое время: «Замечательно, что нет людей настолько тупых и глупых, не исключая и полоумных, которые не могли бы связать несколько слов и составить из них речь, чтобы передать свою мысль (курсив наш. – А.K. )» (Декарт 1950: 301).
Следующая модель коммуникации – инференциональная – была разработана на основе идей «логики общения» Роберта Пола Грайса (Grice 1971, 1975: цит. по Макарову (Макаров 2003)). В отличие от предыдущей модели, где ключевым словом было слово код, инференциональная модель опирается на понятие интенции, при этом основу модели составляет не процесс кодирования/декодирования информации, а демонстрация говорящим своих намерений в процессе взаимодействия/распознавания этих намерений слушающим. Если в кодовой модели говорящий отправляет слушающему свою мысль, то в инференциональной модели говорящий S вкладывает свой смысл в высказывание х и трижды демонстрирует свои интенции:
1) он намерен произнести х и вызвать определенную реакцию r в аудитории А;
2) он хочет, чтобы А распознала его намерение (1);
3) он хочет, чтобы это распознанное намерение со стороны А явилось основанием или частичным основанием для реакции r (Стросон 1986: 136–137). Как замечает М.Л. Макаров (Макаров 2003: 37), «примитивная интерсубъективность» присутствует и в данной модели, но важно то, что она впервые выводится за границы языковых выражений, языковой системы в область традиций и правил взаимодействия (не всегда вербального) в рамках определенного сообщества людей.
Интеракциональная модель коммуникации (Schiffrin 1994: 398–405) предполагает в качестве основы любого коммуникативного процесса опыт взаимодействия коммуникантов в различного рода социальных практиках. Ключевым действием в процессе коммуникации является, в рамках данной модели, демонстрация смыслов, не всегда предназначенных для распознавания. Коммуникативно значимыми оказываются не только вербальные стимулы и реакции участников интеракции, но и их поведение в целом, которое может и не включать вербальных форм. Целью же коммуникации является не обмен информацией и не распознавание интенции, а интерпретация смысла сказанного, производимая субъектом коммуникации на основе его жизненного опыта во всех ипостасях последнего.
1.2.2. Речевое общение и деятельность
Последнее понимание коммуникации максимально сближает содержание данного термина с трактовкой общения в русской школе психолингвистики, где процесс речевого общения неразрывно связан с деятельностью как ключевой формой активности человека. По мнению А.А. Леонтьева (Леонтьев 1997: 27), речевая деятельность есть специализированное употребление речи для общения и в этом смысле – частный случай деятельности общения. Общение же – процесс внутренней саморегуляции социума (Леонтьев 1997), реализующийся в действиях выражения, воздействия и сообщения (Рубинштейн 2000). Деятельностное понимание сущности данного феномена обусловило следующее определение речевого общения, данное Е.Ф. Тарасовым (Тарасов 2006: 260): «Речевое общение – это мотивированная и целенаправленная активность одного человека, ориентированная на другого для регуляции внешнего и внутреннего поведения последнего». При этом речевое общение (далее – РО) ставит перед собой две группы целей: цели организации общения и цели организации совместной деятельности (Тарасов 2006: 263). В данном определении вызывает некоторое возражение слово регуляция, употребление которого в данном контексте подразумевает опять же некую примитивную интерсубъективность, однозначное соответствие слова и мысли в духе марксистской трактовки языка как практического, существующего и для других людей и лишь тем самым существующего также и для меня самого действительного сознания. Сравните: «речь вместе с тем своеобразно размыкает для меня сознание другого человека, делая его доступным для многогранных и тончайшим образом нюансированных воздействий…» (Рубинштейн 2000). Регуляция есть способ воздействия на субъекта, при котором агент воздействия уверен в достижении желаемого результата, эффекта. В речевом же общении нельзя обрести подобную уверенность, иначе не существовало бы понятий «коммуникативная неудача», «коммуникативный сбой». Подобная диффузность и «разреженность» материи общения связана, прежде всего, с философски глобальными феноменами реальности, объективности, субъективности и интерсубъективности.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу