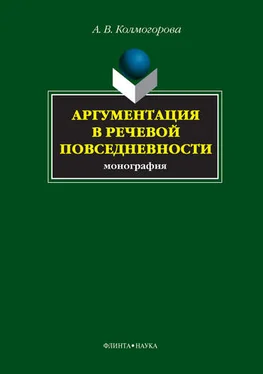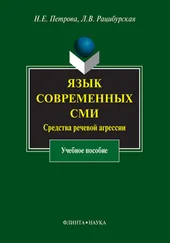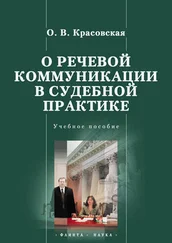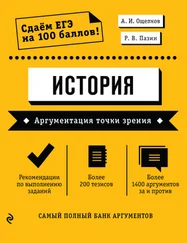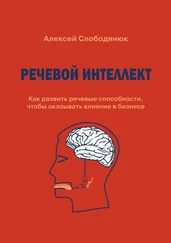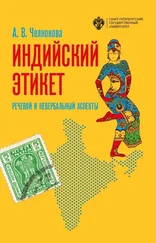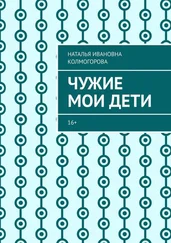Стилистика речи.Важно, что даже в такой, освященной традицией, области науки о языке, как стилистика, наблюдается повышение исследовательского интереса к трудноуловимым явлениям речи. Объектами пристального внимания современной стилистики становятся такие явления, как: речевая субкультура, рождающаяся в ходе обыденного устного общения простых, так сказать, рядовых языковых личностей и тесно связанная с языковым вкусом эпохи, с языковой модой (Седов 2004; Костомаров 1994); новояз — подъязык, способ коммуникации, возникший в недрах партийной номенклатуры, но продолжающий активное функционирование и в современной речевой практике (Земская 1996; Седов 1993); язык Интернета или «скоростной русский язык» (Садовничий 2007), представляющий собой некий коммуникативный гибрид, который по форме есть письменная коммуникация, но по сути, – разговорная речь (Костомаров 2007). В.Г. Костомаров отмечает в этой связи некоторые характерные для современного русского языка тенденции:
1) взаимопроникновение книжного и разговорного языков, при котором соответствующие пометы в словарях не указывают на сферу применения слова, но свидетельствуют об его уровне экспрессивности;
2) средствами массовой информации стирается грань между диалогическим и монологическим общением (ток-шоу, интерактивное общение);
3) разговорные, а не литературные тексты приобретают ценностную весомость в обществе (Костомаров 2007).
Рассмотрев основные «аттракторы» – точки притяжения и упорядочивания современных лингвистических изысканий, – мы приходим к заключению о том, что такие номинации, используемые рядом авторов для обозначения качественного актуального состояния науки о языке, как «неолингвистика» (Седов 2004), «лингвистика языкового существования» (Гаспаров 1996), «лингвистика каждого дня» (Норман 1991), отражают суть происходящих в данной области процессов.
В нашем исследовании мы делаем попытку рассмотреть явление аргументации как неотъемлемую составляющую живой ткани повседневного речевого общения. Подчеркнем, что как реальная коммуникация является изменчивым, гибким и разнообразным по своим формам процессом, так и аргументативное «движение» в ее рамках предстает как многоаспектное явление, не сводимое только к «рациональной части процесса убеждения» (Рузавин 1997).
Глава I
Лингвистика и повседневность
1.1. Повседневность как модус бытия
Следует отметить, что научный и, прежде всего, философский интерес к повседневности как особому и важному модусу бытия человека возник в тесной связи с обострившимися противоречиями парадигмы детерминизма в философии. Вопрос об истине в так называемой классической (или докритической) философии ставился и решался в рамках допущения о данности сознания, осуществляющего когнитивные акты, и о непосредственной доступности «самой реальности». Предпосылкой, обеспечивающей решение познавательной проблемы, было сравнение находящихся в одной руке знаний, а в другой – реальности. Данное допущение, по мнению Б.В. Маркова (Марков 1997: 252), несомненно, парадоксально: здесь проводится резкая граница между познанием и действительностью и одновременно разрешается ее переход. Если познающий субъект является участником жизненного мира, то, строго говоря, не может его объективно созерцать с позиции постороннего наблюдателя. Следовательно, сам вопрос об истине переносится из области абсолютного и универсального в сферу относительного и субъективного. Однако в подвижном и быстро меняющемся окружающем мире, воспринимаемом через призму каждого индивидуального сознания, есть некая точка опоры, стабильный и прочный компонент, где все является частью определенного порядка, знаемого и разделяемого всеми. Это – повседневность.
1.1.1. О статусе повседневности
Необходимо согласиться с В.Н. Сыровым (Сыров 2000) в том, что у повседневности нет референта – она не «отражает», не «выражает» что-либо внеположенное ей, например внешний мир, реальность. В результате повседневность утрачивает приоритет как в возможности проникновения в глубину мира, так и право претендовать на статус фундамента, на котором возвышается и к которому может быть редуцировано все здание человеческого мира, приобретая взамен статус одного из способов освоения мира,или способов человеческой активности. «Повседневность предпочтительнее связывать не с какими-либо объектами, более доступными для обыденного познания, и не с доминирующими предметами интереса в виде дома, семьи, работы. Все это скорее является следствием, и следствием именно способов освоения. Базисные компоненты обыденного мира концентрируются вокруг вопроса „как?“, а не „что?“… Исток ее лежит в способности перемалывать любые объекты в одном и том же направлении, придавать им один и тот же облик» (Сыров 2000: 149), – отмечает исследователь.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу