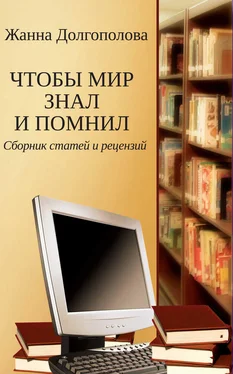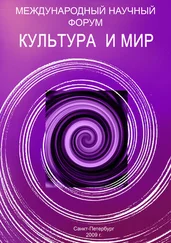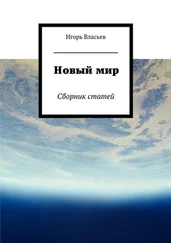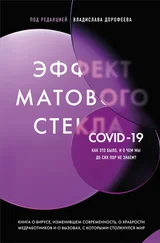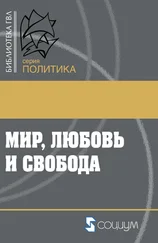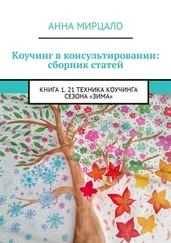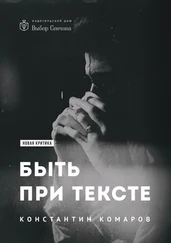Три участника сборника обратили внимание на то, что в романе «Андеграунд…» лидирует тема взаимовлияния литературы и жизни, но рассмотрели ее с разных позиций. Нина Ефимова в статье «Исповедь подпольного героя» читает роман как мирскую исповедь в духе Руссо и Достоевского. Христианская исповедь о совершенных грехах основана на стремлении исповедующегося преодолеть греховность, получить прощение, обрести спасение и вновь слиться с другими, чьи жизненные принципы он нарушил. Мирская исповедь предполагает углубленный самоанализ и нескрываемое отстранение от чуждого ему мира. Кроме того, церковная исповедь всегда тайная, доверенная только одному, сохраняющему ее тайну, а мирская – публичная и как таковая не безразлична к мнению и интерпретации тех, кто готов ее слушать или – значительно чаще – читать. Герой из подполья исповедуется своими «Записками», герой из андеграунда – созданием повести общажных лет. И хотя андеграудный писатель принципиально нигде никогда не печатается и давно уже не пишет, он, считает Нина Ефимова, все-таки надеется, что его исповедь найдет своего читателя, который поймет все, как надо: «…Кто мне мешает думать, что через пятьдесят – сто лет мои неопубликованные тексты будут так же искать и так же (частично) найдут [как рисунки брата]. Их вдруг найдут. Их опубликуют. Неважно, кто прочтет и завопит первым. Важно, что их прочтут в их час».
Елена Краснощекова в статье «Два парадоксалиста (человек из подполья и человек андеграунда)» утверждает, что разгадку тайн «человека андеграунда» надо искать, оглядываясь на его предшественника «из подполья». Она исследовала перекличку маканинского романа, вышедшего на девятом году жизни постсоветской России, с «Записками» Достоевского, появившимися на девятом году оттепели, санкционированной Александром II. В обоих случаях эйфория от новизны сменилась душевным кризисом, и оба писателя вывели своих героев «отставшими» от нового времении «лишними» в новом обществе. «Сочинитель из подполья» принадлежит поколению романтиков 1840-х годов, на смену которым пришли реалисты 1860-х; «сочинитель из андеграунда» вышел из поколения шестидесятников, выжитых деловыми людьми 1990-х. Отличает этих двух парадоксалистов то, что первый спорил с утопическими построениями Чернышевского: «Но почему вы знаете, что человека не только можно, но и нужно так переделывать? Из чего вы заключили, что хотенью человеческому так необходимо надо исправиться?»; второй живет в уже построенной утопии, где сначала исправляли лагерями, потом психушками, «где химия заменяла твое я» и оставляла «мысли уже их, ими внушенные». Не сойти с ума в психушке герою помогла только литература XIX века, «старые слова», откуда «тянуло ветерком подлинной нравственности». Встать на защиту терзаемого санитарами старика тоже помогла литература: «Почему… не слыша чувства, я, человек Русской литературы, смотрю на насилие и созерцаю?» Выученик русской литературы, он из сострадания к униженному старику наносит удар санитарам (и всем «им» вместе взятым) и неожиданно обретает спасение. (Полный текст статьи Елены Краснощековой на русском языке опубликован в «Новом журнале», № 222, 2001).
Константин Кустанович в эссе «Герой минувшего времени, или русская литература как экологическая система в “Андеграунде…” и других произведениях Маканина» предложил читать роман писателя как «литературу о литературе и ее роли в русской жизни». Он считает, что в романе получили развитие мысли писателя из его этюдов о русской литературе, культуре и истории. Один – ранний и незаконченный, о людях, живущих «в тени горы» русской литературы XIX века, которая продолжает управлять их поступками, реакциями, вкусами и в общем определяет их жизнь и в XX веке. Второй – «Сюжет усреднения», опубликованный в 1992 году, в частности, говорит о мощном течении в русской литературе XIX века, зовущем идти к народу, в народ, слиться с людским роем и растворить в нем свое «я». Маканин делает различие между двумя видами «растворения в народе»: в XIX веке это было «личное и добровольное усреднение», когда аристократию/интеллигенцию заботило, как лучше растворить «я» в гомогенной массе народа; в XX-ом, советском веке, когда «усреднение» оказалось принудительным, для интеллигенции стало непосильно трудно и очень важно сохранить крупицы индивидуальности. Тем не менее стремление к «слиянию с роем» в XX веке стало даже сильнее, чем прежде, и потому что русские, как считает Маканин, по-прежнему живут в тени русской литературы XIX века, и потому что болевой порог значительно вырос, а растворение в других, «усредняющее» личную боль, оказалось вполне заманчивым.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу