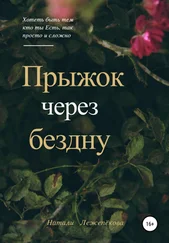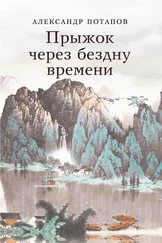А что делает в начальной сцене молодой человек в белых панталонах, «во фраке с покушеньями на моду», в картузе? Он больше не появится в произведении. Но он совершенно необходим здесь. Ведь Чичиков – «Тень». Появляется Чичиков – сразу должен быть и виден кто-то, кто эту «Тень» (Чичикова) отбрасывает. Неважно кто. И если Чичиков – персонифицированный Минус, то этот ничем не примечательный человек – персонифицированный Плюс. Мы видим: Минус – Плюс. Но плюс основным приемом Гоголя уничтожается, перечеркивается, оказывается пустым. (Сгорает, как второй том «Мертвых душ».) Так что и этот молодой человек – ненастоящий, призрачный Плюс. Произойдет, как всегда, следующее: Минус – Плюс – Минус. При встрече с бесом на колеснице на Плюс дунуло ветром – и он ретировался: «Молодой человек оборотился назад, посмотрел экипаж, придержал рукою картуз, чуть не слетевший от ветра, и пошел своей дорогой».
Призрачных плюсов у Гоголя множество – и людей, и предметов, и действий, и фраз, и даже отдельных слов. Это необходимый элемент приема. На самом деле это и есть так называемый «прием остранения». Что-то всплывает – непонятно зачем, что-то бессмысленное. Но в то же время чувствуется: это неспроста, что-то в этом есть. Что-то навязчивое, какое-то дежавю. Какая-то замороженная, похороненная жизнь. В поисках этой потерявшейся жизни человек становится поэтом:
«Губернаторша, сказав два-три слова, наконец отошла с дочерью в другой конец залы к другим гостям, а Чичиков все еще стоял неподвижно на одном и том же месте, как человек, который весело вышел на улицу, с тем чтобы прогуляться, с глазами, расположенными глядеть на все, и вдруг неподвижно остановился, вспомнив, что он позабыл что-то, и уж тогда глупее ничего не может быть такого человека: вмиг беззаботное выражение слетает с лица его; он силится припомнить, что позабыл он, – не платок ли? но платок в кармане; не деньги ли? но деньги тоже в кармане, все, кажется, при нем, а между тем какой-то неведомый дух шепчет ему в уши, что он позабыл что-то. И вот уже глядит он растерянно и смущенно на движущуюся толпу перед ним, на летающие экипажи, на кивера и ружья проходящего полка, на вывеску – и ничего хорошо не видит. Так и Чичиков вдруг сделался чуждым всему, что ни происходило вокруг него. <���…> Видно, так уж бывает на свете; видно, и Чичиковы на несколько минут в жизни обращаются в поэтов; но слово “поэт” будет уже слишком [117] ».
У Гоголя удачно и живо то, что порождается его поэтической силой между двумя лицами-двойниками, между двумя струнами, как в следующем примере возникает откуда ни возьмись «ухватливый двадцатилетний парень, мигач и щеголь», тренькающий на балалайке в окружении «белогрудых и белошейных девиц». Так призрак оживает, так замороженная жизнь оттаивает, не становясь при этом логичнее, становясь интереснее и веселее:
«Подъезжая к крыльцу, заметил он выглянувшие из окна почти в одно время два лица: женское, в венце, узкое, длинное, как огурец, и мужское, круглое, широкое, как молдаванские тыквы, называемые горлянками, из которых делают на Руси балалайки, двухструнные легкие балалайки, красу и потеху ухватливого двадцатилетнего парня, мигача и щеголя, и подмигивающего и посвистывающего на белогрудых и белошейных девиц, собравшихся послушать его тихострунного треньканья. Выглянувши, оба лица в ту же минуту спрятались».
Два лица здесь – как клоуны Бим и Бом, а между ними возникает жизнь: игра, смех.
Владимир Набоков замечает в книге «Николай Гоголь»:
«Перед нами поразительное явление: словесные обороты создают живых людей. Вот, пожалуй, наиболее красноречивый пример того, как это делается:
“Даже самая погода весьма кстати прислужилась: день был не то ясный, не то мрачный, а какого-то светлосерого цвета, какой бывает только на старых мундирах гарнизонных солдат, этого, впрочем, мирного войска, но отчасти нетрезвого по воскресным дням”».
Ну да, все верно. Только заметьте еще, что фонтан новой жизни брызжет между двумя павлинами-двойниками: между днем ясным и днем мрачным.
И так же, как неожиданно и самоценно возникает балалаечник и отчасти нетрезвое по воскресным дням мирное войско, возникает у Гоголя и «самовитое слово» (как мог бы сказать Велимир Хлебников). Вот что замечает по этому поводу Борис Эйхенбаум в статье «Как сделана “Шинель” Гоголя»:
«В этом отношении интересно еще одно место “Шинели” – где дается описание наружности Акакия Акакиевича: “Итак, в одном департаменте служил один чиновник, чиновник нельзя сказать чтобы очень замечательный, низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам щек и цветом лица, что называется геморроидальным”. Последнее слово поставлено так, что звуковая его форма приобретает особую эмоционально-выразительную силу и воспринимается как комический звуковой жест независимо от смысла. Оно подготовлено, с одной стороны, приемом ритмического нарастания, с другой – созвучными окончаниями нескольких слов, настраивающими слух к восприятию звуковых впечатлений (рябоват – рыжеват – подслеповат), и потому звучит грандиозно, фантастично, вне всякого отношения к смыслу».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
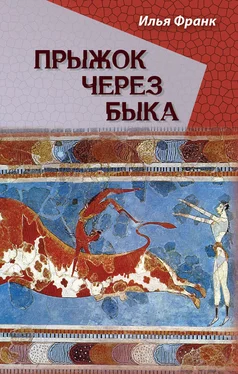
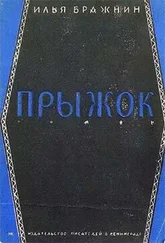
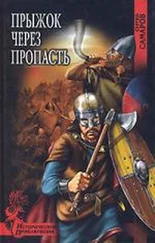


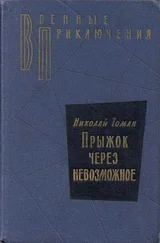
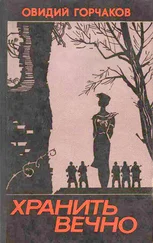
![Илья Франк - Прыжок через быка. Двойник-антипод героя в литературе и кино. Опыт фантастического расследования [litres с оптимизированной обложкой]](/books/433258/ilya-frank-pryzhok-cherez-byka-dvojnik-thumb.webp)