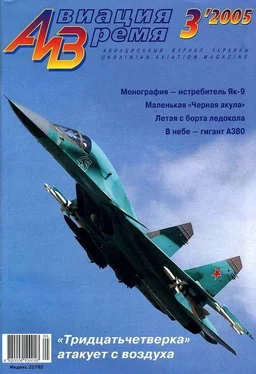Идет проводка каравана
Полеты бывали плановые – на разведку генерального курса, который определяется анализом состояния ледовых полей по данным со спутника и с борта самолета ледовой разведки (Ил-14 Архангельского или Красноярского УГА, а в дальнейшем – Ил-24Н из Москвы), а также срочные – когда ледокол попадал в непредвиденную обстановку. Но самая тяжелая работа начиналась, когда происходило сжатие льдов. Экипажу вертолета приходилось постоянно находиться впереди каравана и буквально по мили, по кабельтову протаскивать его. Для примера расскажу, как это делается в самых экстремальных случаях. Идет интенсивное сжатие, суда в караване не успевают попадать в прорубленный ледоколом канал, который тут же закрывается, тогда необходимо остановить караван и обколоть каждое судно, но пока обкалывается один корабль, другой уже зажат льдами. Чтобы этого не произошло, поднимается вертолет, и начинается поиск самых тонких льдин из всего массива. Наиболее маломощное судно берется на «усы» (на буксир), остальные подходят друг к другу на минимальное расстояние… и «пошла жара». Экипаж Ми-2 находит приемлемый путь, а он всегда с крутыми зигзагами, в местах поворотов оставляет фальшвейера с оранжевыми дымами, и караван идет по ним. Но зачастую таких поворотов очень много, в расставленных дымовых точках можно запутаться, и наша работа будет напрасной. Чтобы этого не произошло, мы определяемся с маршрутом проводки, я приземляю вертолет в первом повороте, и ждем ледокол. Прямо на нас рубится махина в 25 тыс. т, возвышающаяся на полсотни метров, а мы перед ней в «козявочке» – все равно, что сидеть на поле боя перед танком. Когда лед под вертолетом начинает дрожать и двигаться, перелетаем на следующую точку. И так до тех пор, пока не выйдем на спокойный лед.
Время работы, предписанное экипажу нормативными документами МГА, никто и никогда не соблюдал (хотя расписывали задание на полет, как положено). Летали 8, 10, 20 часов подряд – столько, сколько было необходимо для ДЕЛА. Садишься на палубу для дозаправки, а рабочий из камбуза ждет с бутербродами и горячим кофе, не успел перекусить, а вахтенный по радио торопит на вылет – тяжело им без вертолета, И снова вперед, потому что понимаешь – твоя работа очень нужна всему каравану, да, собственно, ты для этого и находишься не на земле (где-то под Полтавой), а на палубе. Зато представьте состояние экипажа вертолетика, который провел караван огромных и мощных судов (а ведь были случаи, когда суда затирались льдами и тонули без потерь, когда все вышли из опасной зоны, когда бессонные, тревожные часы и сутки оставались позади, когда капитаны ВСЕХ кораблей выражают благодарность по радио заходящему на прощальный круг перед посадкой вертолету!!! Такое состояние несравнимо ни с чем! Я знал тогда и знаю твердо сейчас, что командир Ми-2 всегда желанный гость на любом корабле, ходившем по Севморпути, и дома у любого из этих моряков, равно как и они у меня. Это особое братство.
Но самая яркая и незабываемая страничка моей летной жизни – это высокоширотная экспедиция на атомном ледоколе «Сибирь» а 1987 г. под руководством знаменитейшего полярника Героя Советского Союза Артура Николаевича Чилингарова. В апреле того года меня вызвал командир летного отряда Александр Иванович Никитичев и сообщил, что формируется экипаж Ми-2 для экспедиции по спасению полярников с дрейфующей станции СП-27 в Западном полушарии, а также высадке новой СП-29 в море Лаптевых, предполагается заход на Северный полюс в научных целях и разведка для использования ледоколов в коммерческих целях, Я тогда был командиром звена вертолетов, но в поход мог пойти рядовым КВС. Конечно же, я согласился на предложенные условия, так как в ТАКОЙ поход, видимо, пошел бы в любом случае. Старшим авиационным начальником в экспедиции был назначен самый опытный на то время мурманский летчик командир звена Виталий Григорьевич Холодняк, авиационным техником – Геннадий Николаевич Денисов, а специалистом по АиРЭО – Валентин Александрович Большаков.
В знаменательный поход нас собрали всем отрядом. Экспедиция была делом престижа всего коллектива. Напутствие давали как командование Мурманского ОАО, так и нашего отряда во главе с А.И. Никитичевым (которого мы, к большому сожалению, видели в последний раз – вскоре он погиб на Ка-32 при перевозке подвески). 8 мая над домами каждого члена экипажа в пос. Мур-маши «накинули» четыре круга – у нас была такая традиция: уходя в море и возвращаясь после похода, мы совершали пролет для родных и в особенности – для детей. Делать это вообще-то не полагалось, но командование закрывало глаза: как-никак экипаж находится в походе несколько месяцев (иногда более полугода), так пусть отведет душу, Совершили посадку на палубу ледокола, который находился у причала, закрепили вертолет по-штормовому, посмотрели торжественные проводы и пошли располагаться в каюты. Обычно на ледоколах каждый имел свою отдельную каюту, но в тот раз на борту было много стороннего люду (журналисты, научные сотрудники, представители Министерства морского флота и Мурманского морского пароходства), так что размешались е каютах по два. Вертолетный ангар не занимали ничем, так как планировались прилеты Ми-8 из Диксона, и тогда наш Ми-2 предстояло убирать в ангар, освобождая посадочную площадку. А пока знакомились с новыми людьми, разрабатывали стратегию полетов (так как гидрологов было аж трое), готовили вертолет Летать предстояло много,
Читать дальше