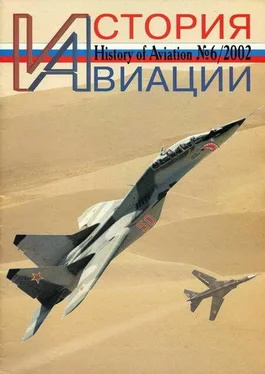Ко всему прочему, надо заметить, что время проверки каждого полка определялось перед началом очередного учебного года, и на подготовку «к Марам» бросалось «всё и вся». В результате в частях начинался процесс, напоминающий зубрёжку школярами предметов перед экзаменами, «благополучно и со вкусом» прогулявшими чуть ли не весь учебный год. И это было не удивительно, так как оценка «за Мары» играла ключевую роль при определении уровня боевой выучки полка за год. При этом никакой покрашенной травой и побеленным бордюром, а также поголовьем и размерами свиней в полковом свинарке закрыть пробелы в боевой подготовке становилось уже невозможно. В своём стремлении выглядеть лучше командование соединений и объединений порой доходило до смешного.
В одной из воздушных армий из трёх полков истребительной авиадивизии в обстановке повышенной секретности сформировали «полк» из лучших лётчиков, который и отправили в Мары. После получения отличной оценки он исчез в обстановке всё той же повышенной секретности, а на командование пролился «сверху» дождь благодарностей и наград. «Липа» такого масштаба, порождалась описанной выше показухой и, конечно, не могла служить даже такого рода «лицом» при попытке определить реальную степень боеготовности истребительной авиации соединения и тем более ИА ВВС СССР.
При быстро установившейся на базе в Марах практике, два вылета в день, нагрузка на инструкторский состав была достаточно высокой, но её результатом стало то, что лётчикам двух эскадрилий 1521-й базы вскоре стало безразлично с кем драться и в каком составе! И для лётного состава авиагруппы базы, и для расчёта её КП эти ЛТУ большей частью выглядели примерно так же, как для инструктора из училища вывозные полёты с курсантами по кругу, а потому вряд ли стоит удивляться тому факту, что проверяемые полки очень редко получали отличные оценки.
Наибольшее количество срывов, за которые и начислялись «штрафные баллы» допускали офицеры боевого управления и лётчики на этапе ввода в бой. При этом надо отметить, что учения проверяемыми полками поначалу проводились по упрощённой схеме. Например, одним из самых распространённых просчётов в замысле «преднамеренный бой эскадрильи» был выбор одного единственного радиоканала, на котором все 12 пилотов вели радиообмен. В реальных условиях это быстро привело бы к неразберихе, так как, с одной стороны, противник мог его легко забить помехами, а с другой, в нужный момент необходимую информацию все лётчики могли и не услышать. По-прежнему хромала и слётанность: при выполнении энергичных манёвров, хотя и сопровождавшихся предупреждением по радио (например, «Крутим левый «винт»!»), ведомые отрывались, тут же превращаясь в лёгкую «добычу» для опытных марыйцев, чьи «МиГи» вскоре с полным основанием украсили грозные акульи пасти, устрашающе предупреждавшие, что в случае необходимости они схарчат любого. Заметим, что в бою между звеньями потеря одним звеном двух своих самолётов однозначно оценивалось «двойкой».
В завершение ЛТУ проводились стрельбы по маневрирующим радиоуправляемым мишеням Ла-17. На каждый проверяемый полк выделялось по четыре – шесть мишеней, которые надо было в итоге сбить при определённых условиях.
Между тем, прогресс в военном деле не стоял на месте, и в середине 70-х годов на арене появились истребители третьего поколения, вооружённые полноценными управляемыми ракетами средней дальности с полуактивными РЛ ГН, которыми можно было атаковать воздушные цели практически с любых направлений. Некоторые специалисты (в нашей стране и за рубежом) в очередной раз заговорили об отмирании манёвренного боя. Если во Вьетнаме количество атак со средних дистанций исчислялось буквально единицами, то в ходе ливанской кампании 1982 г. израильские F-15 применяли ракеты «Спэрроу» примерно в 33% всех зафиксированных атак, эффективно поражая сирийские истребители МиГ-21 и МиГ-23 как на встречно-пересекающихся, так и на догонных курсах.
Сложившаяся в небе Ливана ситуация сильно осложнялась тем, что противник контролировал господствующие горные хребты, ограничивавшие дальность обзора сирийских радаров на высотах ниже 3000 м, и эффективно использовал различные типы помех, затрудняя работу РЛС разведки целей, скрывая тем самым боевые порядки своей авиации. Наиболее «весомым» аргументом апологетов схваток на дальних дистанциях был тот факт, что в ходе боевых действий сирийские лётчики только однажды (10 июня) наблюдали визуально вступивший в манёвренный бой F-15, в то время как более лёгкие (и дешёвые) F-16, не имевшие УР «Спэрроу», постоянно «мозолили глаза».
Читать дальше