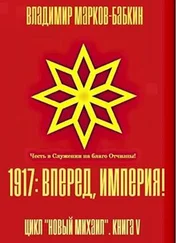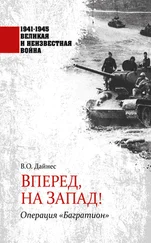Любимое его выражение «ну, добре, ну, добре». На кухне все разложено, как в мастерской, все четко на своих местах. Хозяйничает он с любовью, вкусно готовит, гостя угощает с радостью. Кажется, вся его жизнь прошла в четырех стенах.
А жизнь его прошла в Арктике. За Арктику, за войну – три ордена Ленина, орден Отечественной войны II степени и орден Трудового Красного Знамени. За первые высокоширотные экспедиции – еще один орден Ленина, Золотая Звезда Героя…
Он начинал работать в Арктике, когда эпоха великих полетов прошла. Спасение челюскинцев, высадка папанинцев, перелет через полюс в Америку – все это было позади. Водопьянов вспоминал, что в тридцатые годы «Север слыл каким-то пугалом даже среди видавших виды летчиков. О полетах на Севере рассказывали такие ужасы, что волосы становились дыбом». Но с тех пор прошло еще десять лет. После первого шага, сделанного теми, кто принес крылья в Арктику, нужен был следующий.
Его сделали летчики того поколения полярной авиации, к которому принадлежит и Титлов. Они помогли этим крыльям окрепнуть. Иван Иванович Черевичный, Илья Спиридонович Котов, Василий Никифорович Задков, Борис Семенович Осипов. Об этом поколении Борис Григорьевич Чухновский – один из первых полярных летчиков, участник спасения экспедиции Нобиле – говорил: «Они шагнули куда дальше нашего». В этом поколении Титлов был одним из самых молодых.
Да, аплодисменты отгремели до них. Но осталась работа. Тяжелая, изнурительная ежедневная работа, и еще толком не знали, как за нее браться. Надо высаживать дрейфующие станции, надо летать не от случая к случаю, а изо дня в день: завозить на СП десятки тонн грузов, дежурить на берегу и быть готовым в любой момент – вдруг льдина расколется! — прийти на выручку. Надо было летать там, где еще никто не летал, делать аэродромы там, где еще никто не садился, летать полярной ночью, чего делать еще никто не рисковал.
В 1945 году Титлов летит на полюс. Летит не за рекордом – впервые надо сделать в околополюсном районе разведку льдов. Летит в то время, когда многие вообще не рисковали летать в Арктике, — в сумерках надвигающейся полярной ночи. Больше шестнадцати часов длился этот полет. «Из них около тысячи километров мы должны были пролететь в тех районах Ледовитого океана, где еще никто никогда не бывал – между 95-м и 138-м градусами восточной долготы. Даже магнитное склонение было неизвестно – сплошное белое пятно».
Один из участников этого полета, в будущем – Герой Советского Союза, начальник Первой советской антарктической экспедиции Михаил Михайлович Сомов вспоминал:
«…Перед нами до самого полюса простиралось неизведанное пространство, пересеченное в прошедшие годы двумя узкими полосками исторических дрейфов «Фрама» и «Седова»… Что же представляет собой все остальное пространство, лежащее впереди нас до самого полюса, никто никогда до нас еще не видел. Несколько пар глаз напряженно вглядывались в бескрайнюю белоснежную пустыню, освещенную слабым рассеянным светом полярных сумерек, лишающих ее каких бы то ни было теней и превращающих в монотонную снежную поверхность. Кругом все бело – и лед, и клочья тумана, и облака над ними. Временами все это сливается и кажется, что мы в слабом рассеянном белом свете какого-то не имеющего границ пространства, где теряются всякие представления о расстоянии и времени, где даже слова «верх» и «низ» превращаются в условное понятие, лишенное реального смысла».
Сколько новаторских полетов сделал Титлов! Сверхдальний ночной перелет через полюс – только один из них.
Сейчас на Диксоне прекрасный аэродром. С него летают дальше на Север – и на Северную Землю, и на дрейфующие в Ледовитом океане СП. А когда-то на Диксоне садились только гидросамолеты летом и самолеты на лыжах зимой. Когда снега еще не было, а бухта уже покрывалась льдом, полетов вообще не было. Первым посадил сухопутный самолет на Диксоне Титлов. «Однажды я пошел посмотреть остров. Кочки небольшие. Опыт посадок в тундре у меня был. Я говорю: «Обозначайте 700 метров, я буду у вас тут садиться». На меня посмотрели как на идиота. Но 700 метров флажками разметили. Через несколько дней я шел с мыса Челюскин на сухопутном самолете и сел на Диксоне. Потом много раз туда летал. В 1946 году на этот мой «аэродром» сел полярный летчик Матвей Ильич Козлов. Его, конечно, спросили мнение об «аэродроме». Он рассмеялся и сказал: «Аэродром пригоден для вынужденной посадки даже без шасси»».
Читать дальше
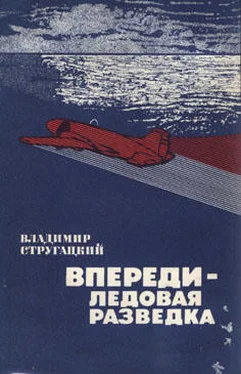
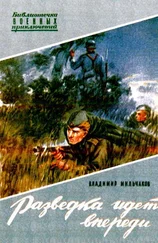
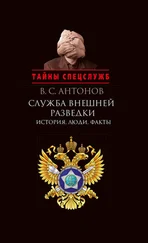
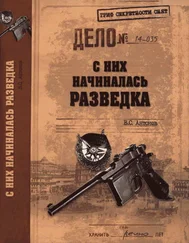
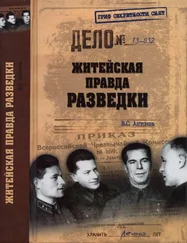
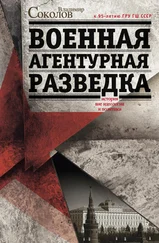
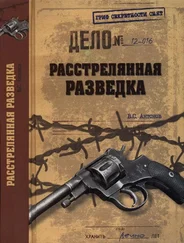
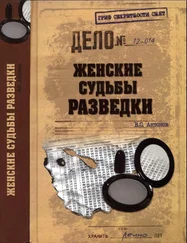
![Майкл Муркок - Ледовая Шхуна / The Ice Schooner [= Ледовая шхуна, или Экспедиция в Нью-Йорк]](/books/296083/majkl-murkok-ledovaya-shhuna-the-ice-schooner-ledovaya-shhuna-ili-ekspediciya-v-nyu-thumb.webp)