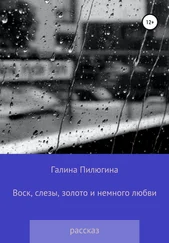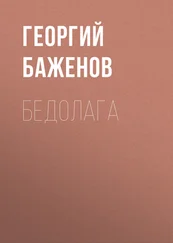Есть и чисто теоретическая возможность осуществить общественный контроль за качеством продукции, за ее разнообразием и т.д., дав в руки народу РЕАЛЬНЫЕ (в частности интерактивные) средства влияния на плановую экономику (но не посредством неуклюжей буржуазной представительской демократии). Другое дело, что в советское время не было ни политических, ни технологических возможностей для этого.
Вот Кара-Мурза вполне справедливо пишет (хоть и поверхностно):
Беда советского строя была не в том, что проблему плохо решали - ее игнорировали, а страдающих людей считали симулянтами и подвергали презрению. Так возникла и двойная мораль (сама-то номенклатура образы потребляла), и озлобление.
Почему все это ему не вспомнилось ранее, когда он объяснял «голод на образы» (правда, тогда он говорил об «увеличении наслаждения») «ловкой манипуляцией» и потерей «здравого смысла»? Неужели нельзя рассматривать явление в комплексе, зачем разбивать свой анализ на отдельные главы, параграфы и постоянно самому себе противоречить?
Вообще, большой ошибкой автора является его сугубо механистический подход к СССР, который отражается даже в термине «советский проект». Автор рассматривает СССР как какое-то здание, созданное по архитектурному «проекту». Он не подходит к рассмотрению вопроса диалектически, не видит явлений в их развитии, в переходе противоположностей друг в друга, не видит связи многих важнейших, фундаментальных событий между собой, их взаимной обусловленности.
У него получается: «советский проект» строили большевики (да еще и с крестьянским мышлением!). Как будто собралась команда: архитектор, прораб, строители - распределили обязанности и «построили». На деле, конечно, все совсем не так просто. Была борьба идей, борьба мнений, борьба личностей и личных интересов, КЛАССОВАЯ борьба. Русское коммунистическое движение, вообще, бессмысленно рассматривать отдельно, вне связи с западным. Как и бессмысленно рассматривать только коммунистическое движение как исключительно марксистское, вне связи с утопистами, анархистами, народниками и т.д. Так называемый «советский проект» строился то так, то эдак, совершались резкие повороты и маневры, и невозможно было заранее, без опыта такого рода преобразований, с точностью предсказать, что из всего этого получится.
Такой замечательный мыслитель и революционер, как Ленин, вынужден был в своей книге «Государство и революция» грубыми мазками набрасывать совершенно утопическую картину будущего устройства (это мы сейчас можем легко понять, а тогда не было достаточно данных для этого), которая не имела под собой реальной почвы для ее осуществления. Не стоит забывать о той катастрофической нехватке опыта социальных революций, которую испытывали большевики: в качестве примера имелась вековой давности Великая Французская, разгромленная Парижская Коммуна, революция 1905-го, плюс далекие китайские тайпины.
«Советский проект» постоянно изменялся, тот же «сталинский период» не является чем-то единым и неизменным, его можно разделить на множество «подпериодов». Не оставалась абсолютно неизменной советская экономика, цензурные правила, законодательство, структура власти, полномочия тех или иных ее органов. И в своих рассуждениях мы должны все это учитывать. Восприятие автором «советского проекта», как чего-то завершенного и цельного, продуманного и предусмотренного, приводит его к вот таким вот утопическим предложениям по «косметическому ремонту» (наладить «производство образов» и т.д.), в то время как проблемы лежали в куда более глубоких сферах. Отбросив от себя, как «ненужные и устаревшие», инструменты классового и экономического анализа, автор сам себя обрек на поверхностные суждения.
Проблема-то во многом заключалась в невозможности сделать вот так вот и так вот по объективным причинам, потому что система не предусматривала инициативы СНИЗУ, не обеспечивала демократических механизмов для развития (вернее, обеспечивала их в совершенно недостаточной степени). Сегодня любой «продвинутый» капиталистический управленец понимает, как важно для развития производства наладить «обратную связь», как важно не закрывать глаза на проблемы, а получать о них самую свежую информацию. Но эта-то «обратная связь» в советское время практически не функционировала.
Автор пишет, что не удовлетворялась страсть молодежи «к риску». Да нет, не просто к риску (бессмысленный риск – негативное явление). Молодежи некуда было приложить свою страсть к ИЗМЕНЕНИЮ мира в лучшую сторону (во имя чего она готова рисковать). Правящая бюрократия СССР в основном отказалась от активного переустройства мира, отказалась от всемирной борьбы против капитала, что опять–таки естественно обуславливается тем местом, которое она занимала в системе распределения. Конечно, СССР поддерживал в какой-то мере мировые социалистические движения, но, с другой стороны, он поддерживал, в основном, их самую консервативную, реакционную часть (чего стоит история отношения к Че Геваре партийной советской бюрократии).
Читать дальше