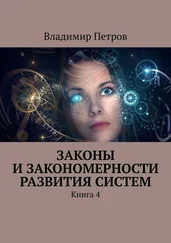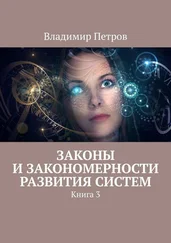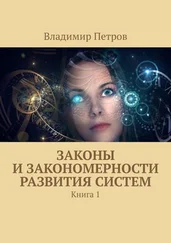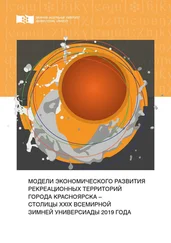В некоторых случаях вписанность системы хозяйства в окружающий ландшафт вполне очевидна и недвусмысленна. Например, во многих государствах обнаруживается более высокий уровень зависимости от ландшафта и среды как, например, зависимость Египта от Нила или Хорезма от Амударьи. Из этой зависимости вытекают размещения и перемещения столиц в соответствии с природно-экологическими обстоятельствами. Так, например, столица Хорезма была перенесена из Ургенча (Гурганджа) в Хиву в 1598 году из-за изменения русла реки Амударьи. По той же причине – из-за изменения русла Евфрата – Вавилон, захваченный Александром Македонским, переехал на Тигр, в Новый Вавилон, построенный Селевком на некотором расстоянии от первоначального города.
Тем не менее значение естественно-географических факторов, мудрость народа в размещении и перемещении своих столиц и нашу способность их однозначно понимать и объяснять не стоит и преувеличивать. Ведь легкость подобных географических объяснений часто оказывается вполне иллюзорной.
Статистики иногда с иронией говорят, что если факты долго мучить, то они признаются во всем, что угодно. Если очень долго рассматривать карту и домысливать, можно найти рациональное начало, стратегические преимущества или даже особую мудрость в выборе очень многих географических точек. В потенции любая точка карты вполне может быстро обрасти прибавочными и иногда даже сакральными смыслами. Интерпретатор может также стать жертвой нарративной ошибки, в силу которой мы склонны вписывать географическое расположение в логику последующих исторических событий и сюжетов. Поэтому предположение, что существует какая-то одна географически правильная логика или только одно провиденциальное место или лунка для расположения столицы, кажется довольно наивным и нереалистичным.
Цивилизационное искажение. Помимо географического положения большую роль в размещении столицы могут играть также цивилизационные факторы. Последние не выводятся и не могут быть объяснены только географическим положением. Это, прежде всего, фундаментальные ориентации, ценности, пространственные схемы, видения и религиозные представления. География, безусловно, влияет на эти ориентации, пространственные схемы и доминирующие формы хозяйственной деятельности, но далеко не исчерпывает их содержания. Говоря более конкретно, это такие факторы, как отношение к торговле, моральные представления, символическое значение сторон света, часто вытекающее из религиозных доктрин (оно также влияет на ориентацию храмов), характер хозяйственной деятельности, уровень вселенских или глобальных амбиций конкретных государств или цивилизаций. Одним из фундаментальных элементов цивилизационных факторов может служить положение относительно моря и модели взаимоотношений между сушей и морем.
Интересно обратить внимание, например, на то, что, несмотря на удобное с точки зрения географии расположение Китайской империи, ее широкий доступ к океанам и морям и комфортное для мореплавания и размещения портов устройство береговой линии, ни одна из множества столиц Китая ) за исключением столицы династии Южной Сун (1127–1279) – Ханчжоу, не располагалась на морском побережье (Eisenstadt, 1987:132–134). Срединное положение Китайской империи в мире, заложенное в самоназвании страны, входит в противоречие с расположением ее столицы внутри Китая. По мнению многих историков-китаеведов, это определялось в числе прочих причин фундаментальной континентальной ориентацией Китая, его ориентированностью внутрь, закрытостью на протяжении длительных отрезков истории его рынков, а также отсутствием у него амбиций мирового господства и доминирования.
Российский синолог Артемий Карапетьянц более наглядно объясняет различия в некоторых фундаментальных пространственных схемах между средиземноморской (европейской) и китайской цивилизациями, обращаясь к их прямо противоположным пространственным схемам. Одно из главных различий образов пространства и представлений о мироустройстве между двумя этими цивилизациями, считает Карапетьянц, состоит в том, что если в центре европейского образа пространства находится Средиземное море, то Китай мыслит себя и цивилизованный мир в целом в виде суши, омываемой со всех сторон четырьмя морями (Карапетьянц, зооо: 133—1.34). С этим представлением, возможно, связана и противоположность между осушением и орошением. Если в месопотамской и египетской цивилизациях мироустроение направлено по преимуществу на орошение земли и снабжение водой, то в китайской главные усилия культурных и мифологических героев, напротив, направлены на осушение и укрощение водной стихии (Карапетьянц, 2000).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
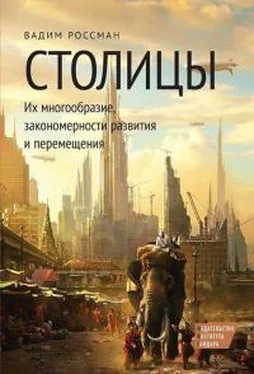
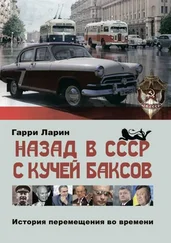
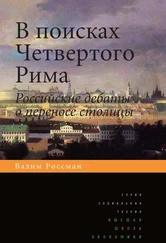

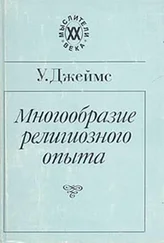

![Уилл Дюрант - Уроки истории [Закономерности развития цивилизации за 5000 лет]](/books/404194/uill-dyurant-uroki-istorii-zakonomernosti-razvitiya-thumb.webp)