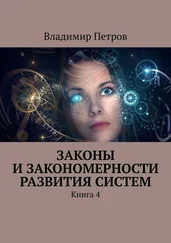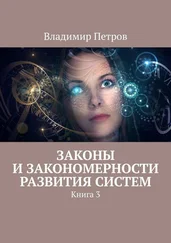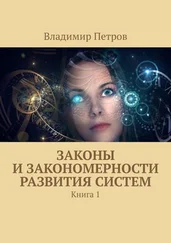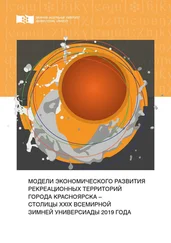В императорской России функции коммерческого центра и портового города, аналогичного, скажем, Барселоне в Испании, выполняли Архангельск и Одесса, но не Петербург [43]. Российский историк Сергей Нефедов замечает по этому поводу: «В действительности Россия давно имела окно в Европу ; этим окном был Архангельск, который даже после постройки Петербурга долгое время оставался основным русским портом» (Нефедов, 2005: 340). Если же говорить о коммерческой столице в гипотетическом ключе как об одной из упущенных исторических возможностей, то таким торговым полюсом российской государственности можно было бы признать Новгород, до того как он был разорен Иваном Грозным.
Еще менее правдоподобно звучит тезис о разделении экономических и политических функций между Петербургом и Москвой, если его распространить на советский или постсоветский период. После переноса столицы в императорской России Москва сохраняла свой статус религиозной и духовной столицы, но не главного коммерческого города. В советской России Петербург стал культурной столицей, но отнюдь не главным коммерческим центром. Российский пример, скорее, иллюстрирует другую тенденцию: бывшие столицы часто становятся важнейшими культурными или религиозными столицами (Киото в Японии, Баган в Бирме, Лалибэла в Эфиопии или Луангпхрабанг в Лаосе).
Кроме того, Бреннер, вероятно, имеет здесь в виду только одну из консервативных государственных стратегий. Некоторые автократические режимы действительно стремятся изолировать себя от шума коммерческой и гражданской жизни в отделенной от них столице. Тоталитарные же режимы как раз стремятся сосредоточить в центре всю полноту и многообразие экономической, социальной и гражданской жизни, чтобы держать под более тесным и всесторонним контролем и опекой все функции.
В содержательном же плане тезис Бреннера кажется интересным и может быть вместо явно неудачной русской иллюстрации дополнен другими достаточно показательными примерами. Разделение труда между политическими и экономическими столицами, о котором он говорит, характерно для стран в самых разных регионах мира. Например, для Швейцарии (Берн-Цюрих), Израиля (Иерусалим-Тель-Авив), Турции (Анкара-Стамбул), Вьетнама (Ханой-Сайгон), Бразилии (Бразилиа-Сан-Паулу), Австралии (Канберра-Сидней), Новой Зеландии (Веллингтон-Окленд), Марокко (Рабат-Касабланка), Эквадора (Кито-Гуаякиль), Греции (Афины-Салоники), Сирии (Дамаск-Алеппо), Камеруна (Яунде-Дуала), Объединенных Арабских Эмиратов (Абу-Даби-Дубай).
Отношения между Римом и Константинополем, так же, как в случае Москвы и Петербурга, были, скорее, связаны с дубликацией функций, хотя Константинополь, как уже отмечалось выше, предложил империи и осязаемые экономические выгоды.
Дивергенция политических и экономических столиц, конечно, не является какой-то исключительно новейшей характеристикой урбанистических иерархий, хотя, скорее всего, она более типична для нового времени.
По-видимому, определенный тип комплементарности экономических и политических (или королевских) столиц существовал во многих древних, средневековых и новых обществах. Хотя экономический центр не всегда превосходил политическую столицу по абсолютным экономическим показателям, в крупных центрах индустрии и торговли была ясно выражена их экономическая специализация, а размер экономик этих городов был или сопоставим со столичными, или превосходил их. Помимо вышеперечисленных случаев мы находим примеры подобных разделений в самых разных географических широтах: Ашшур и Харран в Ассирии, Рим и Александрия в Римской империи, Итиль и Хазарин в Хазарии, Бухара и Нишапур в государстве Саманидов, Баласагун и Ош в каганате Караханидов, Турин и Генуя в Сардинском королевстве, Брюссель и Антверпен в Бельгии.
Известный американский антрополог Клиффорд Гирц указывает на естественно-географическую подоплеку такого диморфизма на примере архаичных досовременных обществ в Индонезии и, в частности, на примере яванского архипелага островов, которые он исследовал. Гирц обращает внимание на естественное противопоставление в структуре поселений между замковыми городами, которые находятся в речных долинах, и поселениями на морском побережье. Первые служат естественными религиозно-административными центрами и часто столицами местных княжеств, вторые же специализируются на торговле и коммерческой деятельности (Geerz, 1973; Eisenstadt, 1987: 93). Таким образом, в противоположность Бреннеру Гирц связывает такое противопоставление именно с географией, а не с сознательной политикой. Уже перечисленные примеры урбанистического диморфизма в современных государствах, где города располагаются в ландшафтах, отличающихся более высокой социальной проводимостью (например, на морском побережье), подтверждают его интуицию.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
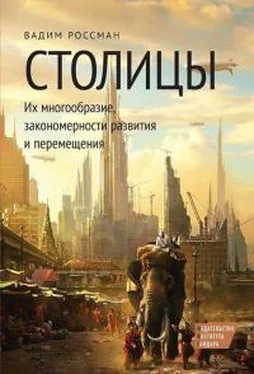
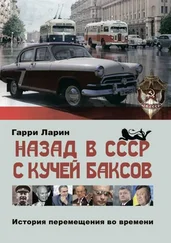
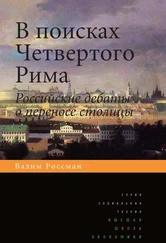

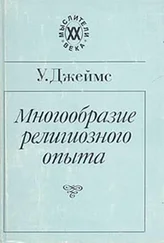

![Уилл Дюрант - Уроки истории [Закономерности развития цивилизации за 5000 лет]](/books/404194/uill-dyurant-uroki-istorii-zakonomernosti-razvitiya-thumb.webp)