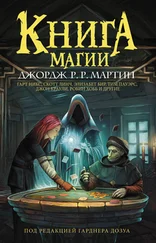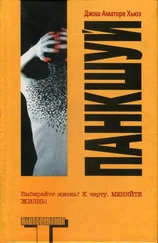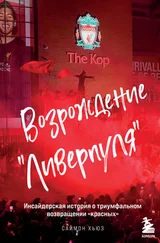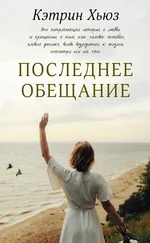На картине XVII века Джованни Педрине (Джампьетрино) Клеопатра стоит обнажённая, прижимая к груди змея. Великолепное мощное и соблазнительное тело, задумчивый взгляд. Это сцена смерти, но в ней нет никакого насилия, никакого ощущения конфликта или потери. Её поза свидетельствует о самообладании, красивое сильное тело — о плодородии и стойкости. Женщина и змей, которые объединены богом Генезиса, являются единством, встречаются и служат друг другу. И их союз, примирение непримиримого, не взрыв, а картина трансцендентного умиротворения.
У Венеры и Марса был сын по имени Гармония. Слияние противоположностей (discordia concors) создаёт благословенную полноту совершенства. Как подчёркивает Дженет Эйдельман, Венера Победительница носит оружие, «как символ победы над Марсом и тех космических и моральных следствий, что эта победа влечёт за собой». Среди таких последствий не только отмена войн, но и радость от снятия ограничений, прежде разделявших людей, дробивших их на частные антагонистические группы. Клеопатра, царица Запада и Востока, единый символ Венеры и Марса, силы и любви, матери и фаллической женщины-змеи, мужчины и женщины, сама представляет иную Гармонию, предвестницу Золотого века.
Золотой век означает снятие последних противопоставлений между жизнью и смертью. По словам Торил Муа, деятели феминистского движения (от Вирджинии Вульф до Джулии Кристевой) «видели цель совместных усилий как раз в том, чтобы убрать смертоубийственную оппозицию между мужественностью и женственностью». Ранние христиане порицали секс в надежде избежать порочного наследия пола.
Когда исключающее «или» заменяется на неисключающее, тогда меняются все понятия о нравственности. В поэме Джона Донна есть такие слова: «Как Запад и Восток на всякой карте (и у меня такая) помещаются одной, так смерть неотвержима от Возрождения». Если Марс объединится с Венерой, писал один из неоплатоников Возрождения, Пико де ла Мирандола, «ничто не будет умирать». Воссоединённый андрогин — залог бессмертия. Если противоречия между полами, между любовью и силой будут смягчены, если принципы Запада и Востока будут скомбинированы, то это означает победу над смертью. Такое согласие и такая надежда мне видятся в образе Клеопатры.
Я не претендую на то, что мой образ Клеопатры более реальный, чем те, что я описывала. Этот образ не претендует на историческую достоверность. Как и большая часть образов этой книги, он является символическим сплавом легенды, мифа и надежды. Я также не думаю, будто бессмертие, что он символизирует, достижимо в буквальном смысле. Но этот образ Клеопатры, который я составила из фрагментов античных мифов, иконографии Ренессанса и современной критики, я считаю столь же привлекательным и вдохновляющим, какими в своё время казались их создателям-современникам образы Клеопатры самоубийцы, или убийцы, или распутницы.
Клеопатра часто заставляла тех, кто мечтал о ней, преодолевать себя, идти на риск, выходить за границы своей привычной самоидентификации ради достижения большего. И такая Клеопатра также приглашает нас совершить путешествие в неведомое, сбросить ограничения дуалистической скорлупы, из-за которой мы считаем врагами всех, кто находится вне. Риск велик. Последовав за тем, что предлагает эта Клеопатра, мы можем потерять многое из того, что имеем, и разрушить многое из нашего прошлого «я» (ведь как иначе я могу стать одновременно и собой, и своим оппонентом?). Однако выигрыш столь же велик: воцарение мира и гармонии, и всё остальное, что может быть создано на этой основе.
Вновь, как не раз в прошлом, образ Клеопатры включает в себя желательное саморазрушение.
«Всё, что требуется сделать, это увидеть, что на вас смотрит Медуза-горгона, — пишет Хелен Сиксоуз. — Её взгляд не смертелен. Она красива, и она смеётся». Это — разрушение магических чар. То же самое происходит и с воображаемой Клеопатрой — при более внимательном рассмотрении выясняется, что она милосердна. Да, она была женщиной, обладавшей также и мужской властью. Да, она была чужестранкой, поставившей под вопрос само право Запада на культурное доминирование. Да, она справляла чувственный праздник плоти, не считая его смертельным грехом. Однако её образ, который совершенно очевидно выходил за установленные границы, может читаться не как смущающая душу несуразица, а как предсказание дальнейших величайших возможностей человечества — возможностей, прогреваемых умом, очищенным от расовых и сексуальных предрассудков; возможностей для тех, кто (в отличие от Бодлера) способен заглянуть в свою душу или смотреть на своё тело без содрогания. И те, кто способен отбросить в сторону «голоса, что вечно правы», кто не идёт по простому и лёгкому пути огульного осуждения всех «иных», на нас не похожих лиц, те, без сомнения, смогут увидеть её красоту, услышать её нежный и мягкий смех.
Читать дальше
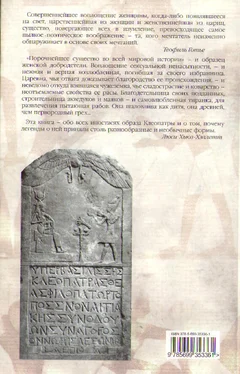

![Рис Хьюз - Madonna Park[e-book - рассказы]](/books/94285/ris-hyuz-madonna-park-e-book-rasskazy-thumb.webp)

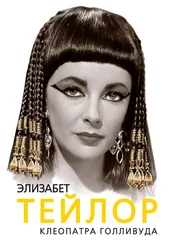

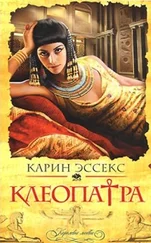

![Кэтрин Хьюз - Ключ [litres]](/books/399517/ketrin-hyuz-klyuch-litres-thumb.webp)