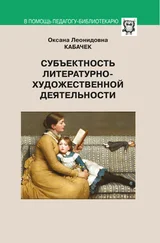1 ...6 7 8 10 11 12 ...73 Ребенок получает, наконец, ответ, когда слышит звериное рычание (на него он реагирует не исследовательским задумчивым затаиванием, но реципрокной реакцией — лепетом, т. е. своей «продвинутой» речью). Собака — это не человек, не птичка, не ходики, а другое, нечеловеческое, живое существо! Слово «зверь» ребенку неизвестно, но сущность по-своему понята. Теперь собака помещена в особую категориальную «клеточку»; задача успешно решена.
* * *
Текст ритмически задорен (детская оперетта, т. е. буффонада, цирк), а по содержанию серьезен, почти как бы страшен — как и, частично, анаграмма и «архетипический» слой затекста — в отличие от слоя фабульного, умиротворенного и счастливого.
Получается сложная система: 1) ритм (форма) текста = фабульный слой затекста (веселое, счастливое, гармоничное, полное); 2) семантика текста = анаграмма и метафизический слои затекста (временами печальное, трагическое, но и сопротивленческое тоже).
Сопротивляться помогает как раз ритм! Все сходится в единой точке конца зачина; получается особая гармония.
Что важнее для слушателя: мирный семейный покой, идеал взаимодействия и полнота существования, дающие и тренирующие навык счастливого принятие мира, себя и ближних? Или умение исследовать окружающий мир и упорно идти к своей познавательной цели? (И это ведь есть в фабульном слое затекста.) Или сопротивление Злу, его на-дух-неприятие (в анаграмме)?
А, может быть, именно невозможно счастливое, блаженное младенчество и помогает если не сразиться со Злом, то остаться самим собой? Более того: оно растворяет в себе всякое зло, даже намек на него. Побеждает (перевоспитывает как в фильме Роллана Быкова?) — своей неиссякаемой стихийной (и одновременно культурной, человечной) силой. Такое своеобразное гегелевское снятие. В буффонаде и оперетте.
Революцию, которую совершил в детской литературе Корней Иванович, невозможно переоценить. В 1926 г., защищая подвергшегося нападкам любимого «Крокодила» Чуковский пишет: «… именно с моего „Крокодила“ началось полное обновление ее [детской литературы] ритмов, ее образов, ее словаря ‹…› Моя цель [была]: создать уличную, несалонную вещь, дабы в корне уничтожить ту приторно-конфетную жеманность, которая была присуща тогдашним стихам для детей» [27].
Так что же главное в поэзии К. И. Чуковского? То, «что движет Солнце и светила» (Данте): великая сила любви. Всё произведение, все его слои напитаны и сочатся безусловной и неотменимой родительской любовью. Особой, уникальной для тех времен — и почти принятой в социуме ныне: любовью на равных.
Вечный ровесник детей. Не будет ошибкой считать, что для Чуковского ребенок был «собрат по испытанию» (выражение М. К. Мамардашвили, философа). Удивительно точный, скрупулезный — научный портрет детского развития (общения и речи, мышления и восприятия, предметных и игровых действий), и при этом портрет не фотографический, а сгущенный,художнически обобщенныйи идеальный,данный К. И. Чуковским неосознаваемо в затексте начальных строк «Бармалея», есть результат его отношения к детям как к себе-подобным существам. Понимание их как самого себя, тяга к ним как к максимально родственным созданиям. Почти абсолютная децентрация, растворение в ребенке. Жгучий бескорыстный интерес; знаниеи проживаниедетства. Многократное, неустанное, счастливое проживание с каждым своим и с любым чужим ребенком. Везде и всегда. Одержимость детством.
Позиция поэта Чуковского, поэтому, двойственна: и как опекуна-родителя, сильного и мудрого, обнимающего каждого ребенка любовью как наилучшей в мире защитой, и, одновременно, как товарища по играм. Как взрослого, старшего — и как равного (ребенка в душе). И эта двойственность также придает поэзии Корнея Великого художественный эффект: эффект двойного зрения .
Квинэссенция психотерапии — вот что такое детские тексты Корнея Ивановича! Ибо самое лучшее лечение — любовью (практика тотальной любви и понимания, заинтересованности в развитии и личностном раскрытии слушателя: идеальная семейная — и художественная — педагогика).
«Архетипический» слой затекста
Наиболее загадочным представляется третий слой, первоначально названный (в ранних работах) метафизическим . Поляризация на области абсолютного, метафизического Добра («Рай») и Зла («Ад») — первое, что бросалось в глаза при анализе этого слоя, образованного выборочной фонограммой (определенными звуками и их сочетаниями). Имелась и определенная теоретическая основа для подобных представлений: нас давно волновала проблема субъектов литературно-художественной коммуникации. Помимо привычной «посюсторонней» горизонтали «Автор (S1) — Читатель (S2)», постепенно выстраивалась и аксиологическая (ценностная) вертикаль, носящая «потусторонний» характер: обитатели верхнего (Божественного) — (S3) и нижнего (демонического) — (S4) миров (Ср. трехуровневый, «соборный» средневековый космос [21;36]). Подробней об этом будет рассказано ниже.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
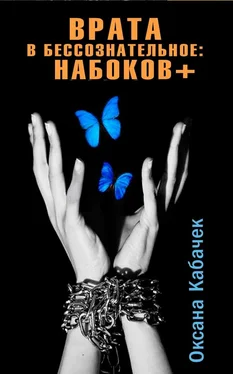
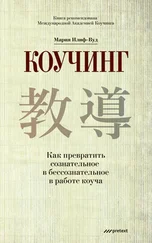
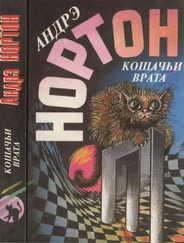





![Карл Юнг - Архетипы и коллективное бессознательное [litres]](/books/398004/karl-yung-arhetipy-i-kollektivnoe-bessoznatelnoe-thumb.webp)