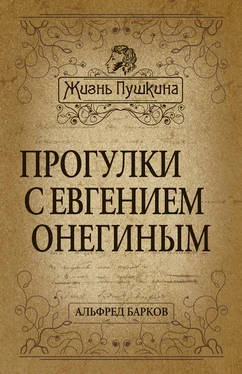Но имитировать гения – работа неблагодарная, она чревата подводными камнями; отсюда – и рифмы типа «морозы – розы» с бросающейся в глаза несуразностью их использования, и сочетания типа «читал – не читал», и трижды повторенное «девять» в пяти стихах, и отказ от целой строфы по причине несостоятельности в таком элементарном (для Пушкина) деле, как перевести эти «девять» в «восемь» с сохранением размера… Перейти на другой, привычный для него размер он не может, размер – как паспорт, он выдаст его с головой, и все сразу поймут, кто именно скрывается за псевдонимом «Онегин». Ведь и сам псевдоним этот он выбирал долго: явно же примеряя разные варианты уже в ходе создания своих мемуаров, сумел-таки ни разу не поставить его в конце стиха, чтобы рифмы не стесняли свободу выбора уже в ходе работы… Зато с выбором имени у него, как видно, проблем не было, потому что с самого начала «Евгений» ставится преимущественно в конце стихов, и подбор рифм к этому имени еще раз свидетельствует о его низкой квалификации как поэта – ведь не поморщиться при виде такого сочетания как «Евгений – гений» (1-VIII) может разве что читатель с очень нетребовательным вкусом, не говоря уже о таких бросающихся в глаза повторах рифм к этому имени, как «осуждений» и «суждений» (1-XXV, 2-XVI). Особенно повезло рифме «наслаждений», использованной трижды на довольно ограниченном пространстве (1-XXXVI, XLIII и 2-I).
Нет, рассказчик не только грамотен и неглуп; он еще очень сильно не любит за что-то Пушкина. Он вообще не любит никого, кроме самого себя, и это ясно видно из содержания его «отступлений» (о том, какие уродливые формы принимает его любовь к Татьяне, см. ниже). Но к Пушкину у него отношение особое. Он дерзок, ставя себя вровень с гением, но все же понимает, что все его потуги выдать себя за него обречены на провал. И, чтобы закрепить у читателя мысль об авторстве Пушкина, он идет на явный подлог: вводит его биографические данные в текст повествования и даже в такую «внетекстовую» структуру, как «Примечания». Такова природа неуместных ремарок [4]типа «Писано в Бессарабии», «Писано в Одессе», пространный экскурс в биографию А. П. Аннибала. Не сумев описать петербургскую ночь, тот, кто скрывается за псевдонимом «Онегин», привлекает на помощь тяжеловесную идиллию Гнедича, поместив ее в Примечаниях, а это может скомпрометировать любого поэта (об этих огрехах не говорят вовсе не потому, что их нет, а потому, что их принято относить непосредственно к Пушкину; но не является ли такая забота о репутации поэта оскорбительной для его памяти? Ведь только истинный гений может позволить себе преднамеренно сымитировать и выдать от своего имени такую бездарность, которая на самом деле оборачивается невиданным по своей мощи художественным средством).
Но такие приемы со стороны анонима, заведомо дискредитирующие Пушкина как поэта, трудно воспринять только как стремление скрыться за его фигурой, поскольку их явная тенденциозность свидетельствует о предвзятой позиции рассказчика по отношению к Пушкину. Поэтому продолжить анализ психологических доминант Онегина целесообразно с учетом того, что именно он создает; то есть, к какому жанру он относит свое творение.
Показав в пародийном образе Ленского одного из лучших поэтов России Баратынского, Онегин открыто демонстрирует свою негативную позицию по отношению к романтическому направлению, ярким выразителем которого был этот поэт; к этой манифестации он присовокупляет свою «позитивную программу» путем мнимого «пародирования» архаического стиля Ломоносова, фактически противопоставляя его романтическому стилю, привлекая для этого тяжеловесную «классику» Гнедича. Учитывая возраст Онегина (на восемь лет старше Ленского-Баратынского), его условно можно отнести к группе, в отношении которой Ю. Н. Тынянов ввел определение «младоархаисты».
Конечно, пародировать Баратынского сам Пушкин не стал бы; но ведь в данном случае пародирует некий вредный по характеру аноним из стана «архаистов»… Действительно, у Пушкина даже в самом кошмарном сне не вырвалось бы подсознательное стремление убить Баратынского, а ведь у Онегина вырвалось – затаенное, из подсознания, причем задолго до ссоры и самой дуэли: «Пускай покамест он живет Да верит мира совершенству…» (2-XV). Можно, конечно, списать все на непрямой, метафорический, что ли, смысл слов «пускай покамест он живет», но куда же тогда девать буквальный? Или Пушкин действительно так небрежно относился к своему произведению, что мог непреднамеренно оставить в тексте такую этическую двусмысленность?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу