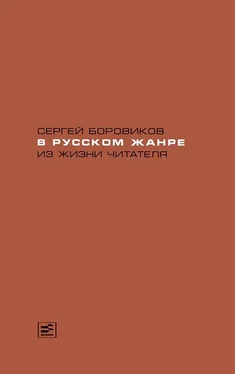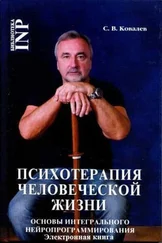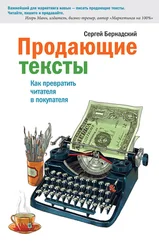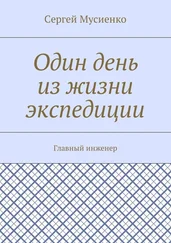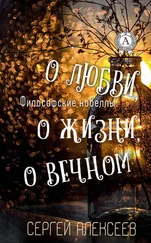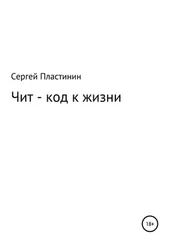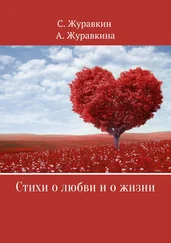Вот Достоевский — тут уж и поиски, и находчивость, и ёрничанье, почти неприличное — «Чужая жена и муж под кроватью», и дерзость почти безумная — кто бы ещё мог назвать роман — «Идиот»?!
А Гоголь… одним только (хотя есть и «Нос», и «Вий»), одним только названием «Мёртвые души» (!) — поставил рекорд непобиваемый. Но Толстой, конечно, пожелал с ним соперничать: «Живой труп»!
* * *
«Писать не хочется, да и трудно совокупить желание жить с желанием писать» (Чехов — брату Александру. 15 апреля 1894 г.
* * *
«Сердито, по-хохлацки, поглядел» (Чехов. В родном углу).
* * *
«…существо узкое, пьяное и злое» (Чехов. Муж).
Это — уже из Достоевского.
* * *
В рассказе Чехова «У знакомых» меня очень поразили строки «С неумением брать от неё (от жизни. — С. Б.) то, что она может дать, и со страстной жаждой того, чего нет и не может быть на земле». Когда узнал, что они записаны им на телеграмме и потом включены в рассказ, понял: они настигли его как откровение.
* * *
В последнее время всё большее внимание к Александру III. Мудрено ли!
Положительным цифрам места здесь не хватит. Нехорошо, правда, что обязательно всё у нас с подтекстом. «Патриоты» — с обожанием, потому что инородцев гонял, с Европой свысока изъяснялся. «Либералы» с неприязнью по той же самой причине.
Но, что ни говори, бурный экономический рост и общий, редкий для России политический покой что-нибудь да значат.
Самый безсобытийный русский классик это Чехов. А что если так?
Когда-нибудь в русской истории имена писателя Чехова и императора Александра III будут связаны.
Разве весь Чехов — не свидетельство всепоглощающего ощущения стабильности (или застоя), покоя (или скуки), предчувствия грядущих перемен (потрясений), которым отмечен уникальный для России период правления царя-миротворца?
Оговорюсь на всякий трусливый случай прежде всего в том, что никоим образом не собираюсь апологетизировать царя и установившийся при нём порядок. И всё же народ зря прозвищ не давал, и миротворцем Александра Александровича прозвали не столько за отсутствие войн (в Средней Азии повоевали, и результативно), сколько за общее ощущение мира, отсутствие явных реформ и резких движений.
Разве мир Чехова не иллюстрирует именно это ощущение мира, лишённого движения? Не будет конца примерам — напомним лишь «самый» — «Трёх сестёр» — героев и ситуаций с настроением куда-то двигаться, бежать к какой-то настоящей жизни. А какая эта другая жизнь? Куда и зачем они собираются уезжать, если и там, куда они собираются, царит то же самое — то есть стабильное, почти без намёка на «перемены», «безвременье».
Если взглянуть на большинство повестей, рассказов и пьес Чехова с заявленной мною точки зрения, то станет очевидна конгениальность его сюжетов, идей, а главное поэтики, эпохе Александра III. Ну скажите, можно ли было в другие времена написать немалую повесть о том, как некий петербургский чиновник поселяет у себя даму, а когда она ему надоедает, переезжает на другую квартиру, сообщив ей при этом, что находится в служебной командировке. (Не знаю, почему мне пришёл на ум именно «Рассказ неизвестного человека».)
Конечно, таков не только Чехов, но и та современная ему литература — Лейкин, Потапенко, Щеглов и другие, которую он с невиданной скоростью и силой перерос.
* * *
Для Саратова имя живописца Алексея Петровича Боголюбова (1824–1896) не чужое. Алексей Петрович родился в Кузнецком уезде Саратовской губернии — ныне это Пензенская область, основал здесь первый в России общедоступный художественный музей, дав ему имя своего крамольного деда. Входящих в музей встречает портрет роскошного могучего седобородого старца работы И. Е. Репина, бывшего младшим товарищем Боголюбова. В экспозиции музея много работ Боголюбова.
И всё же не ошибусь, если скажу, что даже интеллигентному саратовцу известно о великом земляке две-три строки: внук Радищева, маринист, передвижник. Смею полагать, что многим иногородним искусствоведам ещё известно разве что про его многолетнее пребывание во Франции, да как следствие — прививка барбизонской школы к русскому пейзажу.
Не странно ли: ведь передвижник? Но в советской литературе о передвижниках имя Боголюбова очень часто оказывалось в «и другие». Тенденция эта сильна даже в изданной в перестроечные времена книге главного исследователя передвижничества Фриды Рогинской «Товарищество передвижных художественных выставок» (1989). Ключ отыскивается в примечательной оговорке исследователя: «Даже те из передвижников, которые по происхождению не принадлежали к разночинцам, как Клодты (бароны) или Мясоедов (дворянин), по образу своей жизни и по самосознанию принадлежали к трудовой интеллигенции». Ну, и далее Боголюбов, естественно, выступает как «сложная и противоречивая фигура» с соответствующим выводом: «В то же время деятельность Боголюбова, способствующая развитию демократического искусства, сочеталась с его верноподданнической привязанностью к царствующему дому».
Читать дальше