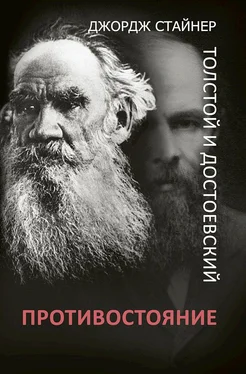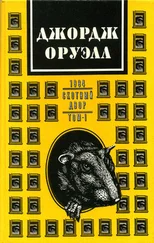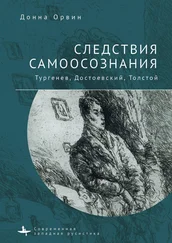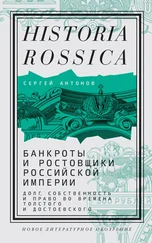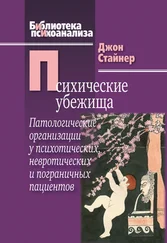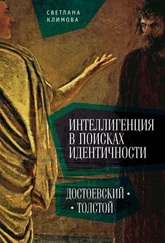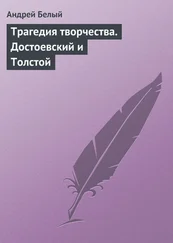Мы видим, что Толстой, рассматривая свое творчество, допускал его сравнение с эпической поэзией и особенно — с Гомером. Его романы — и в этом их существенное отличие от книг Достоевского — охватывают крупные промежутки времени. Благодаря некой оптической иллюзии, мы ассоциируем временные масштабы с понятием эпического. На самом же деле, события, непосредственно описанные в Гомеровых эпопеях или в «Божественной комедии», ужаты в краткие промежутки — несколько дней или недель. То есть, именно метод повествования, а не временной охват, объясняет нашу интуитивную аналогию между романами Толстого и эпопеями. И в тех, и в других действие идет по центральной нарративной оси, а вокруг нее, словно вдоль спирали, мы видим пассажи воспоминаний, отступления и забегающие вперед пророчества. Несмотря на всю затейливость деталей, динамические формы «Одиссеи», «Илиады» и «Войны и мира» просты, и они сильно полагаются на нашу подсознательную веру в реальность и поступательное движение времени.
Гомер и Толстой — всеведущие рассказчики. Они не прибегают ни к внешнему вымышленному голосу, который Достоевский или Конрад любят помещать между автором и читателем, ни к сознательно ограниченному «углу зрения», как у зрелого Джеймса. Основные произведения Толстого (за важным исключением «Крейцеровой сонаты») рассказаны в античном стиле — повествователем от третьего лица. Свои отношения с персонажами Толстой очевидным образом считал отношениями между всезнающим творцом и его созданиями:
«Вот и я тоже, иногда пишешь, и вдруг — станет жалко кого-нибудь, возьмешь и прибавишь ему черту получше, а у другого — убавишь, чтоб те, кто рядом с ним, не очень уж черны стали» [70] Из воспоминаний М. Горького о Толстом.
.
И все же в искусстве Толстого нет ничего от кукол и кукольного театра Теккерея. Персонаж и у Шекспира, и у Толстого «живет» отдельно от своего создателя. Наташа не менее «жива», чем Гамлет. Но по-иному. Она некоторым образом ближе к нашему представлению о Толстом, чем принц Датский — к нашему представлению о Шекспире. Думаю, разница здесь не в том, что о русском романисте нам известно больше, чем о елизаветинском драматурге, а, скорее, в природе и правилах русского романа и елизаветинской драмы. Но объяснить это не в силах ни критика, ни психология.
Говоря гегельянским языком, в романах Толстого — как и в основных мировых эпопеях — присутствует «совокупность объектов». Драма же — как и Достоевский — изолирует персонажей в их фундаментальной наготе; пространство лишено предметов обстановки, дабы ничто не заглушало лязг действия. Но в эпическом жанре простые атрибуты жизни — инструменты, дом, пища — играют важную роль; отсюда и почти комичная основательность Мильтонова Рая с его вполне осязаемой артиллерией и обеспечением ангелов продовольствием. Толстовский холст заполнен многочисленнейшими деталями, особенно в романе, который Генри Джеймс в минуту брюзгливой забывчивости назвал «Миром и войной». В нем изображены целое общество, целая эпоха — не в меньшей мере, чем у укорененного в своем времени Данте. И Толстой, и Данте иллюстрируют собой часто повторяемый, но редко до конца осознаваемый парадокс: некоторые произведения искусства становятся неподвластны времени именно в силу их неразрывной связи с конкретным периодом истории.
При этом наш подход в целом — попытки сопоставить романы Толстого с эпической поэзией и особенно с Гомером — наталкивается на две весьма существенные проблемы. Вне зависимости от итогов своих размышлений, Толстой — страстно и в течение всей жизни — был связан с фигурой Христа и ценностями христианства. Как он мог написать — причем, уже в 1906 году, — что чувствует себя комфортнее «среди богов и героев» гомеровского политеизма, чем в шекспировском мире, который, несмотря на всю свою нравственную нейтральность, изобилует христианскими символами и традициями? Эту сложную проблему затронул Мережковский в процитированном выше замечании, что «душа у Толстого — „урожденная язычница“». Я вернусь к этому вопросу в последней главе.
Вторая проблема более очевидна. Если мы говорим о глубоко скептическом отношении Толстого к театру, его отрицании Шекспира, о сродстве между его романами и эпопеей — чем тогда мы можем объяснить такое явление, как Толстой-драматург? К тому же случай Толстого практически беспрецедентен. Не считая Гете и Виктора Гюго, едва ли можно назвать хотя бы одного писателя, который создал бы шедевры и в жанре романа, и в драматургии. Но, строго говоря, с Толстым нельзя сравнить ни Гете, ни Гюго; романы первого интересны, в главную очередь, благодаря их философскому содержанию, а сочинения Гюго, несмотря на их громкую славу, вряд ли всерьез претендуют на внимание взрослой аудитории. Все-таки «Отверженные» и «Собор Парижской Богоматери» воспринимаются иначе, чем «Мадам Бовари» и «Сыновья и любовники». Толстой — исключение, и оно тем более удивительно в свете его собственных литературных и этических доктрин.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу