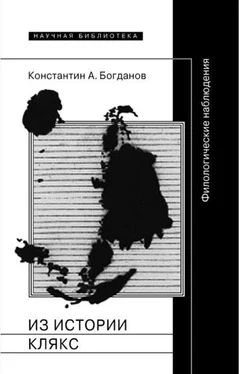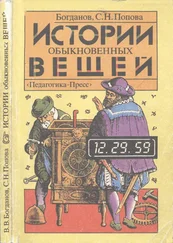Мотивация вышеупомянутых поступков обратима к интенции, которая может быть названа интенцией непосредственного действия. Эффективность такого действия в плоскости идеологии и политики выражается в его телесной самодостаточности и в своего рода коммуникативном коллапсе. «Исчерпанность слов» — довод, безразличный к диалогу, но в этом и состоит его убедительность. По мере вытеснения чернильных ручек шариковыми ручками и компьютерами использование чернильниц в качестве силового, но равно и символического «аргумента» сходит и, по-видимому, сойдет на нет, хотя память о такой возможности, судя по всему, сохранится до тех пор, пока нам являются демоны, а выражение эмоций не ограничивается словами [258].
Что же касается самой истории с чернильницей, брошенной Лютером в черта, то упоминания о ней — особенно многочисленные в немецкой культуре — остаются благодатной темой литературного и художественного изображения. Среди первых в этом ряду стала историческая трагедия Цахариаса Вернера (Werner) «Мартин Лютер» (1807): драматическое событие, закончившееся появлением чернильного пятна (в данном случае на двери комнаты Лютера), приурочено здесь к Виттенбергу, а его объяснение вложено в уста самого Лютера, рассказывающего о нем Меланхтону (акт 2, сцена 1). По ходу пьесы история с пятном оказывается при этом значимой деталью, соотносимой с вернеровским пониманием духа протестантизма как диктата веры над разумом, рока над рационализмом. Исторические события Реформации, как их показывает Вернер (обратившийся через четыре года после написания этой пьесы к католицизму), должны быть поняты в неотвратимости их происхождения, в конфликте благих намерений и необоримости человеческих страстей. Так и «странная» встреча Лютера с чертом важна не тем, была ли она на самом деле, а тем, что она была реальна для самого Лютера — верившего в то, во что он не мог не верить.
Сама эта встреча, впрочем, могла наводить и на более веселые раздумья: так, в стихотворении Филиппа Генриха Велькера (Welcker) «Доктор Лютер и черт», включенном в сборник «Тюрингские песни» (1831), посещение чертом Вартбурга рисуется равно авантюрным и комическим мероприятием: здесь любопытствующий и вполне миролюбиво настроенный черт пробирается в комнату к Лютеру. Тот же, напротив, пребывает в мрачном и сердитом настроении, бормоча себе под нос проклятия. Черту это нравится, он пытается подобраться к нему поближе, но не тут-то было: «с дикой яростью» и «громовым голосом» доктор бросает в него чернильницу, и черт, весь мокрый от чернил, «потрясеный и возмущенный сверх всякой меры» таким грубым обхождением, удирает от него через окно [259].
В роли поэтического и литературного мотива упоминания о чернильнице Лютера остаются стилистически и содержательно вариативными. В разных контекстах он подразумевает разное — силу веры, стойкость духа, праведный гнев, но также и морок сознания, мучительность бреда, страх сумасшествия. Вне религиозной тематики коннотации, связываемые с достопамятным событием, как правило, либо ироничны, либо окрашены морализаторством. Примером последнего рода может служить, в частности, стихотворение Леонида Мартынова «Чернильница Лютера» (1979), туманно призывающее к борьбе с самоуспокоенностью и ложным благонравием:
Вновь
Адский гром
Забормотал о чем-то.
И просятся проклятья на уста.
Чернильница,
Которой Лютер в черта
Швырнул, она прольется неспроста!
Чернильница,
Которой в черта Лютер
Сердито запустил в полубреду.
Чтоб не паскудил бес, не баламутил
Благочестивым людям на беду!
Очнулся Лютер,
И чернила вытер
Он с пола, со стены и со стола.
Изгнал он дьявола.
И гнев он свой насытил.
Чтоб добродетель сладко не спала! [260]
Впрочем, судить о каких-либо «общетематических» предпочтениях в этих случаях также нельзя. История встречи Лютера с чертом и чернильное пятно как след от этой встречи обнаруживают разнообразие культурно-исторических подтекстов и социально-психологических коннотаций, имеющих между собою лишь то общее, что они так или иначе указывают на то, что не нуждается в словах. Это чистое действие, интенциональность, выражающая себя в акте вневербального контакта с реальной или воображаемой действительностью. Значит ли это, что в предельной и наиболее адекватной репрезентации такое действие обязывает не к рассказу о нем, а к его воспроизведению? Посетители Вартбурга могли задуматься об этом 10 ноября 2009 года (в 526-ю годовщину реформатора) в ходе «экспериментального чернильницебросания» (ехреrimentelle Tintenfasswurf), проведенного здесь двумя немецкими «кунстлерами» — искусствоведом Вазоном Броком и художником Морицом Гётце. В комнате Лютера, задрапированной целлофаном, на стене — в том месте, где, по легенде, когда-то можно было видеть знаменитое чернильное пятно, — были развешены белые листы картона, служившие мишенью для инициаторов перформанса, которые сидя кидали в эти листы с двухметрового расстояния запаянные стеклянные шарики с чернилами. Полученные таким образом 150 клякс дали жизнь 150 «произведениям искусства», выставленным впоследствии на устроенной в Берлине выставке и продававшимся по 800 евро за экземпляр [261].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу