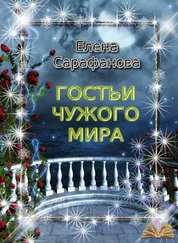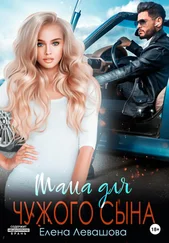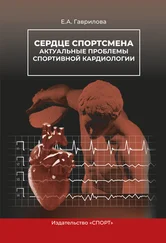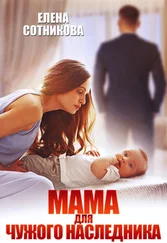Н.В. Дризен сообщил об этом решении Д. Мережковскому, и тот предпринял попытку сохранить указанные к изъятию фрагменты. 28 июля 1916 г. он писал цензору:
«Глубокоуважаемый Николай Васильевич, спасибо за письмо и хлопоты. Слава Богу, что все-таки пьеса прошла, хотя исключения цензурные очень обидные по своей неосновательности и произвольности. Мелкие, но грубые…
Одно исключение особенно грубое и ненужное — это последние слова Митеньки, которыми пьеса кончается (на стр. 135). У меня большая просьба к Вам: нельзя ли ходатайствовать, чтобы позволили сохранить эти слова, исключив из них, если уж это непременно нужно, то, за что они и запрещены, вероятно? Выписываю, подчеркнув красным карандашом то, что можно бы выпустить, сохранив остальное:
Мит. <���енька>. — Нет, не за наше здоровье, а за здоровье Мих.<���аила> Кубанина. Пей, гуляй, православный народ! Кричи все: виват свобода, братство и равенство! Виват, Михаил Кубанин!
Нельзя ли также восстановить условные исключения (потому что — „непонятно“): на стр. 134. „Это притча о нем, о М.<���ихаиле> Куб.<���анине>“. Притча на счет медовых сот в львиной челюсти. Нельзя ли растолковать, что тут нет ничего преступного и понять довольно легко: Кубанин сначала Дьякову казался жестоким, злым (лютым львом), а вот в конце концов оказался-таки добрым — по крайней мере сделал нечаянно добро Дьякову (доброе — кроткое — сладкое — „мед в челюсти львиной“). Вот почему эта „притча о нем, о М.<���ихаиле> Куб.<���анине>“.
Остальные исключения принимаю с покорностью, хотя с большой грустью, которую Вы, очевидно, разделяете. Об этих двух восстановлениях очень прошу — особенно о последних словах Митеньки. Иначе всю сцену придется выкидывать, а она важна в сценическом отношении. Но если просьба моя хлопотлива или трудно ее исполнить, то делать нечего — и эти два исключения тоже принимаю. Буду ждать ответа. Еще раз большое спасибо за все Ваше хлопоты.
Искренне преданный Вам, Д. Мережковский» (669–670).
Видимо, Д. Мережковскому удалось договориться с цензором. Он оставил в реплике Митеньки лишь упоминание о библейской притче:
« Митенька. Ну, ладно, не буду. А только, если вернется, помни, брат, что это — дело Мишиных рук. Зла тебе хотел, а сделал добро. Знаешь притчу: медовые соты в челюсти львиной, — из едущего вышло едомое, и из крепкого вышло сладкое» (328),
а исключенный фрагмент:
«Нет, не за наше здоровье, а за здоровье Мих.<���аила> Кубанина. Пей, гуляй, православный народ! Кричи все: виват свобода, братство и равенство! Виват, Михаил Кубанин!»
переписал так:
« Митенька. Врешь! А если знаешь, так пей! (Подает стакан). Пей за здоровье Михаила Кубанина.
Дьяков. Я же тебе сказал, что не хочу вина.
Митенька. Врешь! опять врешь! Не в вине тут дело, а за его здоровье пить не хочешь.
Дьяков. Да нет же, право…
Митенька. А если нет, — пей сейчас!
Дьяков. Послушай, Митя!..
Митенька. Нечего слушать. Пей, или черт с тобой!
Дьяков. Ну, ладно, давай!
Митенька. Только помни, брат, это не шутки, — это все равно, что клятва вечная. Поднимай же стакан, кричи…
Дьяков. Не буду я кричать.
Митенька. Ну, ладно, я за тебя. Только смотри, чтоб крепко было: как выпьем, — стакан об пол. Виват! Виват! Виват Михаил Кубанин!» (330).
Непонятая цензором аллюзия на библейскую притчу (Суд. 14: 6–9) созвучна излюбленным выражениям В. Белинского, содержащимся в его письмах: «Признаю я в тебе благородную львиную природу, дух могучий и глубокий…»; «… никогда я не видал… в твоей душе такой львообразности» (к М.А. Бакунину от 12–24 октября 1838 г.); «Чудесный человек, глубокая, самобытная, львиная природа» (к Н.В. Станкевичу от 8 ноября 1838 г.).
Современники не случайно усматривали в пьесе попытку представить исторические лица в конкретное историческое время. В ремарках указаны год — 1838, место действия — «усадьба Кубаниных, в Тверской губернии, и в Луганове, усадьбе Дьякова, в той же губернии», соответствовавшее местоположению имений Бакуниных, фамилии действующих лиц легко узнаваемы. Но замысел автора лежал в иной плоскости. Об этом речь идет в неопубликованной рецензии «Мир намеков и символов».
«Автор убедительно подчеркнул, что его пьеса — не историческая картина. Исторические имена в ней только символы. Мережковский не задавался мыслью воссоздать исторического Бакунина во всей его полноте. Он взял только его молодость. Она нужна была ему как своего рода символ — вечно юного романтизма… Симпатии автора — симпатии зрителя — отдаются безраздельно тому молодому, свежему, светлому, что собирается вокруг Михаила Бакунина. Много радостного духа у нашего романтика, а рати за ним не видно» [166] ОР ИРЛИ РАН. Ф. 163. Оп.3. Л. 1–5.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу