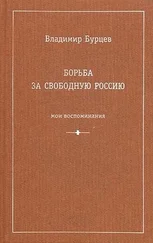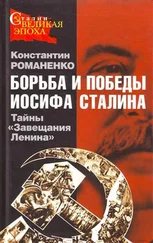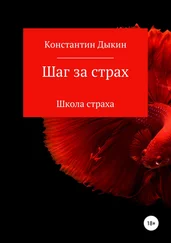Константин Вентцель - Борьба за свободную школу
Здесь есть возможность читать онлайн «Константин Вентцель - Борьба за свободную школу» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: sci_pedagogy, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Борьба за свободную школу
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Борьба за свободную школу: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Борьба за свободную школу»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Борьба за свободную школу — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Борьба за свободную школу», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Как в школе, так и вообще в отношениях людей друг к другу, Л. Н. совершенно отвергаете наказания. Он пришел к тому убеждению, что наказание не только не исправляет людей, но делает их хуже, чем они были прежде, возбуждая в то же время дурные страсти и скрытые пороки в окружающих людях. Кросби передаете следующий случай из жизни Л. Н., который ярко рисует его отношение к вопросу о наказании. «…Маленькая Саша, хорошенькая, крепкая десятилетняя дочь Л. Н. играла перед домом с крестьянским мальчиком из деревни. Они поссорились, как обыкновенно ссорятся дети. Мальчик в сердцах схватил палку и ударил Сашу по руке. Удар был сильный, и девочка с плачем побежала в дом, показывая большой черный синяк около локтя». Она бежала к отцу и сквозь слезы просила его выйти и наказать виновного. Толстой ласково взял девочку к себе на колени, вытер ее слезы и посмотрел на ушибленное место. Затем между ними произошел разговор, за безусловную точность которого Кросби не ручается.
«— Ну Саша, — сказал отец, — что же будет хорошего, если я прибью мальчика? От этого твоя рука не будет меньше болеть.
— Нет, будет! Он гадкий, злой мальчишка, ты должен наказать его!
— Подумай немножко, Саша. Почему он тебя ударил? Ведь потому, что рассердился на тебя. Значить, он тебя не любить? А если я его прибью, он еще больше тебя возненавидит, да еще возненавидит и меня. Мне кажется, нам лучше всего будет заставить его полюбить нас, и тогда он никогда больше тебя не ударить. А если мы заставим его нас возненавидеть, то он, пожалуй, будет ненавидеть всю свою жизнь».
Между тем Саша перестала плакать, так как ее рука больше не болела, а лсажда мести несколько утихла в ней.
«— Вот что я сделал бы, милая, если бы был на твоем месте, — продолжал Толстой. — Ты знаешь, в кладовой есть малиновое варенье, оставшееся вчера от ужина. На твоем месте я бы положил его на блюдечко и отнес бы мальчику».
Этот совет, вероятно, поразил Сашу. Но почему же она последовала ему? — а она ему последовала. Может быть, потому, что хотела сделать удовольствие отцу, которого нежно любила, может быть из любопытства, чтобы посмотреть, что сделает мальчик, а может быть, потому, что тут было затронуто ее нравственное чувство. Как бы то ни было, но она пошла в кладовую, взяла варенье и отнесла его своему врагу». «Я уверенъ, — говорить Кросби, — что малиновое варенье помогло исправлению мальчика больше, чем помогли бы побои, которых он вполне заслуживал». «Если в этом мальчике была хоть искра добра — а такая искра есть во всех мальчиках — то это блюдце малинового варенья должно было раздуть ее в пламя».
Что касается вообще вопроса о нравственном воспитании детей, то, по мнению Л. Н., он сводится к вопросу о воспитании самого себя, о собственном нравственном самосовершенствовании. «Я думаю, — говорить он, — что не только трудно, но невозможно хорошо воспитать детей, если сам дурень; и что воспитание детей есть только самосовершенствование, которому ничто не помогаете столько, как дети. Как смешны требования людей курящих, пьющих, объедающихся, не работающих и превращающих ночь в день, о том, чтобы доктор сделал их здоровыми, несмотря на их нездоровый образ жизни, так же смешны требования людей научить их, как, продолжая вести жизнь не нравственную, можно бы было дать нравственное воспитание детям. Все воспитание состоите в большем и большем сознании своих ошибок и исправлении себя от них. А это может сделать всякий и во всех возможных условиях жизни. И это же есть и самое могущественное орудие, данное человеку для воздействия на других людей, в том числе и на своих детей, которые всегда невольно ближе всего к нам». Нравственное воспитание «представляется сложным и трудным делом только до тех пор, пока мы хотим, не воспитывая себя, воспитывать своих детей или кого бы то ни было». Но если мы поймем, что воспитывать других мы можем только через себя, то упраздняется вопрос о нравственном воспитании, и остается один вопрос жизни: как надо самому жить? В области нравственного воспитания Л. Н. дает следующие два правила: самому не только жить хорошо, но работать над собой, постоянно совершенствуясь, и ничего не скрывать из своей жизни от детей: лучше, чтобы дети знали про слабые стороны своих родителей, чем то, чтобы они чувствовали, что есть у их родителей скрытая от них жизнь и есть показная. Все трудности воспитания вытекают от того, что родители, не только не исправляясь от своих недостатков, но даже не признавая их недостатками, оправдывая их в себе, хотят не видеть этих недостатков в детях. В этом вся трудность и вся борьба с детьми. Дети нравственно гораздо проницательнее взрослых, и они — часто не выказывая и даже не сознавая этого — видят но только недостатки родителей, но и худший из всех недостатков — лицемерие родителей, и теряют к ним уважение и интерес ко всем их поучениям… Правда есть первое, главное условие действительности духовного влияния, и потому она есть первое условие воспитания. А чтобы не страшно было показать детям всю правду своей жизни, надо сделать свою жизнь хорошей или, по крайней мере, менее дурной. И потому воспитание других включается в воспитание себя, и другого ничего не нужно.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Борьба за свободную школу»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Борьба за свободную школу» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Борьба за свободную школу» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.