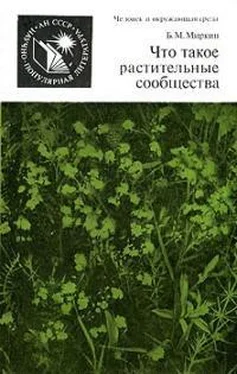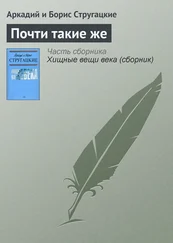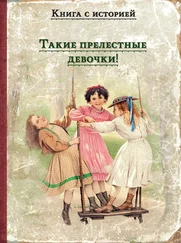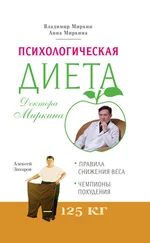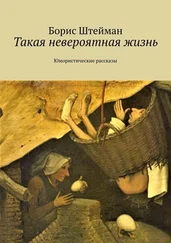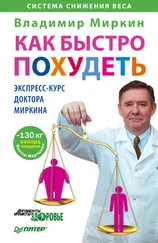Доминантный подход применительно к таежным лесам был в целом вполне оправдай, а его разрешающая способность достаточной, чтобы создавать системы, полезные и для теории и для практики. Доминантов в таежном лесу мало, они устойчивы во времени, а в напочвенном покрове очень хорошо выделяются эколого-физиономические группы мхов, лишайников и трав, которые индицируют условия среды. Таким образом, понятия ельник-черничник, сосняк-беломошник (с лишайниками) и т. д. были вполне пригодными и для практики работы лесоустроителей, и для теоретических географических обобщений.
Однако эффект "запечатления" первого объекта, напоминающий обычную в этологии ситуацию, которая заставляет утенка бежать за движущимся спичечным коробком на веревочке, если он увидит его первого, когда вылупится из яйца, и примет за мать, сместил принципы классификации лесной растительности на луговую, стенную и даже на сегетальную растительность пашен. Сходства между лесами и травяными сообществами было мало — доминанты лугов или степей менялись во времени в циклах сезонной и разногодичной изменчивости и были очень слабыми виолентами, потому мало влияли на состав видов-спутников. Произошло то, что С. В. Мейен называет "нарушением областей типологической экстраполяции": принципы, уместные для классификации лесов, оказались абсолютно непригодными для классификации лугов или сегетальной растительности.
Ассоциаций на лугах, если встать на формальный путь комбинировании доминантов, можно выделить очень много. Добросовестный исследователь может на небольшом участке насчитать их многие сотни, хотя обычно в этом случае их не характеризуют и не перечисляют, а оперируют следующим по рангу синтаксоном-формацией, о котором речь пойдет ниже.
В 1971 г. во время заседания секции классификации лугов на III Всесоюзной конференции по классификации растительности в Ленинграде делала доклад фитоценолог из Якутска А. Я. Пермякова, рассказывающая о лугах поймы сравнительно небольшой реки Яны. На стене висела таблица, где было указало свыше 100 формаций. Я как раз в этот день председательствовал и задал вопрос докладчику: "А почему Вы не выделили ассоциаций?" Пермякова ответила, что ассоциации она выделяла, но их очень много и нет времени перечислить. На вопрос, сколько ассоциаций приходится на одну формацию, она ответила, что не меньше десяти. "Так что же, у Вас свыше тысячи ассоциаций?" Последовал ответ, что не меньше, но что ее классификация очень помогает колхозу организовать сенокосное хозяйство и труженики села благодарили за оказанную помощь. Ответы А. Я. Пермяковой вызвали смешок в зале, так как понятно, что никакая практика не может оперировать с системой, где количество единиц свыше тысячи...
В разные годы одно и то же сообщество надо относить к разным ассоциациям. Л. М. Сапегин, специально изучавший этот вопрос, показал, что за пять лет наблюдений на на одном из 10 отобранных им участков не сохранился состав доминантов и, строго следуя принципу классификации на основе обильных видов, каждое сообщество нужно было бы переименовывать (менять название ассоциации) от 3 до 5 раз.
Не лучше обстояло дело и с формациями. Применительно к лесам, где впервые стали выделять формации: ельники, сосняки, пихтарники, черноольшаники, эта единица также не была идеальной, так как формации разных видов оказываются несопоставимыми. Сосняки распространены едва ли не по всей территории СССР (если исключить крайний юг и крайний север), сосна может расти на известковых отложениях, на болотах, на боровых песках, в прочих совершенно различных по экологии местообитаниях, а черноольшаники связаны лишь с умеренной полосой европейской части СССР и строго приурочены к богатым болотистым почвам. Тем не менее у формаций в лесной растительности есть определенные достоинства: все ее сообщества легко опознаются в природе по преобладанию одного и того же вида дерева.
Формации в луговой растительности очень различны по своему экологическому и географическому ареалу. У видов, которые распространены в узком диапазоне условий среды, они могут быть достаточно информативными экологическими единицами. Например, формация лисохвоста вздутого объединяет луга влажных слабосолончаковатых почв, формация костра безостого — сообщества прирусловой части пойм, где обильно ежегодно отлагается наилок и т. д.
В то же время многие луговые виды (пырей ползучий, ячмень короткоострый), как и сосна лесная, имеют очень широкие экологические амплитуды, и тогда в их формацию попадают луга совершенно различной экологии. Экологическая необъятность многих луговых формаций породила уже почти тридцатилетний опыт улучшения их системы, причем привязанность к этим единицам у некоторых исследователей воистину достойна удивления. О естественности формации писал Е. М. Лавренко в 1982 г., а Г. П. Павлова в изданной в 1981 г. монографии о лугах Южной Сибири, ссылаясь на работы И. X. Блюменталя, продолжает наделять этот синтаксон всеми возможными добродетелями и утверждать, что формация — это филогенетическое единство со своеобразным типом биогеоценотического процесса. И все эти утверждения являются абсолютно беспочвенными и декларируются без каких-либо обоснований.
Читать дальше