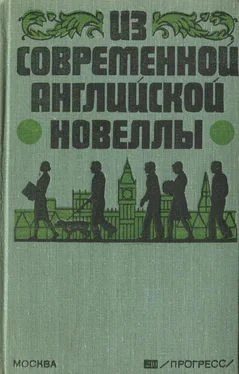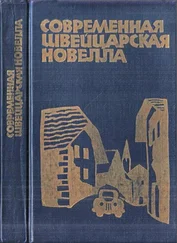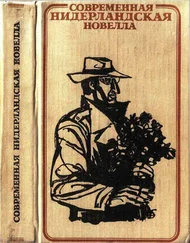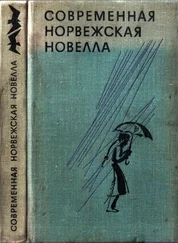Он молчал, я тоже молчал, потом вдруг почувствовал, что он на меня смотрит, поглядел ему в глаза и понял, что он все понимает. Он сказал:
— Я так ни с кем не поступал, Боб.
— Да, конечно, Джек, — сказал я.
— Может быть, я иногда бывал крут, — сказал он, — но ведь просто у меня такой характер. Игроки для меня всегда были на первом месте.
Я кивнул. Тогда он наклонился ко мне, придвинул лицо почти вплотную к моему, словно пытался загипнотизировать меня, заставить сказать "Да что вы, Джек, я давно и думать забыл" — ведь он ощущал это мое отчуждение, как упрек, и не мог его стерпеть. Теперь все должны были держать его сторону. Все должны были говорить ему, как скверно с ним обошлись. Он сказал:
— Иногда бывает нужно напомнить юнцу о дисциплине — своеволия у них всегда хватало, а теперь и подавно. Такой воображает, будто? знает, что для него лучше, а на самом деле ничего он не знает. В мое время, перед войной, слово менеджера было законом. Герберт Чэпмен, Фрэнк Бакли — с ними не спорили!
— Времена переменились, Джек, — сказал я, а он сказал:
— К худшему переменились, Боб. Теперь лояльности и в помине нет. Что правление клуба, что игроки. Мои игроки! — Он чуть не всхлипнул на этом слове. — Думаешь, они хоть что-нибудь сделали? В мое время был бы подан протест.
Я не ответил, я не мог сказать "ну конечно", потому что в мое время я такого протеста не подписал бы. Я сказал:
— Вы ведь знаете игроков, Джек. Менеджер им нравится, когда он на коне.
— В мое время было иначе, — сказал он, а я сказал:
— Да, теперь время другое.
Потом он снова посмотрел на меня и сказал:
— Все, что я делал, я делал, чтобы было лучше. Ты это знаешь, Боб. Видел бы ты, какие письма я получил, письма от старых игроков, от Джонни Грина. Видел бы ты его письмо!
Я кивнул — если кто и мог ему написать, так, уж конечно, Джонни, голубоглазый паинька: да, Джек, нет, Джек, как скажете, Джек.
— Замечательный капитан, а, Боб? Вот кто целиком выкладывался, — сказал он, а я сказал:
— Да, он себя не щадил.
Тут он опять посмотрел на меня тем же выжидающим взглядом, почти с упреком. От меня требовалось сказать "бедный старина Джек", показать ему, что я его простил, что мне его жаль. И я его действительно простил, мне действительно было его жаль. Но и только. Я думал: "Ну вот, Джек, теперь вы знаете, что в таких случаях чувствуют люди", но этого мне тоже говорить не хотелось. И он начал перебирать давнишние игры, старых игроков — помню ли я этот матч и тот матч, этот случай и тот случай, изо всех сил творя легенду, будто мы были одна счастливая семья. Хотя, наверно, так оно ему всегда и представлялось: взыскательный глава счастливого семейства. Если мы не слушались, он нас наказывал, но исключительно для нашей же пользы.
— Джек, мне пора, — сказал я наконец и встал, но он схватил меня за рукав и сказал:
— Посидим еще!
— Не могу, опаздываю на поезд, — сказал я, хотя на самом деле у меня было еще полчаса. Он сказал:
— Ты мне пиши, Боб. Я сейчас дам тебе адрес.
А я ответил:
— Ладно, Джек, постараюсь. Только я плох писать.
— Не надо терять друг друга из вида, — сказал он, словно от отчаяния не знал, что придумать. — Когда я снова приеду в Лондон и ты будешь здесь…
— Я здесь очень редко бываю, Джек, — сказал я.
Тут из-за столика в углу встал какой-то человек — я еще раньше заметил, что он поглядывает в нашу сторону. Он сказал:
— Мистер Бредлаф, я не ошибаюсь? Я помню, сэр, как вы еще играли в сборной. Все это просто возмутительно.
Джек потряс ему руку — я видел, что он доволен, но в то же время он косился на меня. А я воспользовался этой минутой, чтобы уйти. Я сказал:
— Ну, пока, Джек, — и пожал ему руку.
— Один из моих старых игроков, — сказал он, а тот поглядел на меня и сказал:
— Да-да, а кто именно?
А я сказал:
— Ну, мне пора, — и пошел к двери.
Он меня окликнул:
— Боб!
Я обернулся, а он смотрит на меня тем же взглядом, умоляющим, но я просто спокойно стоял и ждал, и в конце концов он сказал:
— Так ты пиши, Боб, хорошо?
А я снова сказал:
— Постараюсь, Джек, — и вышел на улицу.
Когда я поглядел в окно, этот человек что-то ему говорил, но он как будто не слушал.
Когда трибуны на тебя взъедаются, в спортивных отчетах пишут "часть зрителей", да только ты-то слышишь рев — и уж какая там "часть", так и кажется, что вопит весь стадион до самого последнего человека.
Помню, как это в первый раз произошло со мной — я тогда начал играть за "Роверс", и мы встречались с "Льютоном". Это была уже третья моя игра, но на своем поле — первая. Две предыдущие мы проиграли — не по моей вине, но все равно они были против меня. Я это понял, едва получил мяч. "Прентис, не спи! Пасуй, Прентис! Чего ты топчешься, Прентис?"
Читать дальше