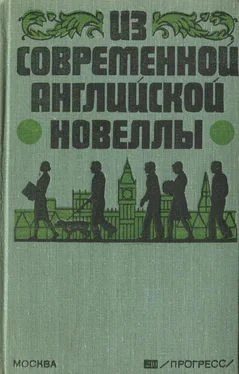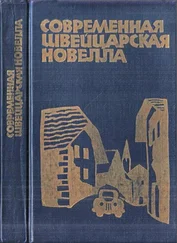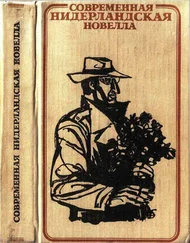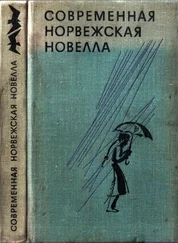На земле, между двумя заросшими клумбами, лежал квадрат лимонно-желтого света. Либо Майкл уснул, не потушив лампу, либо еще не спал.
Шлепая босыми ногами, Тим вернулся в комнату и порывисто, раздраженно натянул пижамную куртку, брошенную на спинку стула. Потом вышел в коридор и еще раз негромко позвал из тишины дома:
— Триция! Триция, ко мне! — Ни звука в ответ. Он заглянул в ванную комнату, где в ванну с оранжевыми подтеками того же оттенка, что и табачные пятна у Майкла на пальцах, уныло капала вода из крана, заглянул в пустые детские, в уборную, где, как выражалась Лора, вечно "воняло канализацией", сколько она ни сыпала в унитаз порошков и сколько ни распрыскивала аэрозолей.
Он спустился по скрипучей лестнице, поминутно останавливаясь, не отнимая руку от перил.
Снизу, из спальни, раздался голос Майкла:
— Тим? Это ты?
— Я.
— Ты что, не спишь?
— Я искал собаку — Трицию.
— А она у меня.
Тим открыл раздвижную дверь и увидел брата — тот лежал поверх покрывала совершенно голый, подняв колени, на которых покоилась тетрадь. Он не сделал попытки прикрыть наготу, даже не шелохнулся. Собака лежала у него под коленями, как бы поддерживая их собою. Глазки-бусинки скользнули от одного брата к другому; она не завиляла хвостом.
— Ох, Майкл, не место ей здесь!
— Эка важность!
— Лора не любит, чтоб она лазила по кроватям, диванам и стульям. И ей это известно. — И тебе тоже, едва не прибавил он.
— Так Лоры сейчас нет. И знать Лоре не обязательно. Бедняжечка! — Он ласково провел рукой по острой, слишком вытянутой морде. — Намучилась, пока ей выдирали эти самые яичники. По такому случаю не грех ее и побаловать.
— Всегда есть опасность, что у нее блохи. В такую жаркую погоду уберечь от них собак практически невозможно. А уж от ветеринара она с ними возвращается каждый раз.
— Ну, ко мне-то, как я уже говорил сегодня, насекомые никогда не проявляли интереса. Так что мне это ничего.
Тим смотрел на узкое длинное тело с пучками седоватых волос на груди — их словно приклеили наудачу там и сям — и почему-то совсем юношескими ногами. Он ведь старше меня, думал Тим, на пять лет старше, а насколько лучше сохранился, если не считать седину. Ему вдруг стало стыдно за свое брюшко, туго обтянутое пижамными штанами, за пухлую, словно у девочки-подростка, грудь.
— Ты почему не спишь? Наверно, страшно поздно.
Он посмотрел на часы; таким тоном он разговаривал с детьми, когда, сидя с гостями за столом, слышал в разгар обеда, как они носятся или болтают наверху.
Теперь и Майкл взглянул на старомодные часы, которые перешли к нему от отца и которые он носил на выцветшем нейлоновом ремешке, тоже еще отцовском.
— Еще трех нет. Для меня это не поздно. Я ночью сплю часа три-четыре.
— Не знал, что ты тоже страдаешь бессонницей.
— А я и не страдаю. Бессонница — это когда тебе хочется спать, когда знаешь, что нужно спать. А мне и так расчудесно — либо читаю, либо пишу или думаю, а то лежу себе премило и жду, когда настанет новый день.
Тим подошел ближе к кровати, и сука, ожидая, что ее накажут, вдавилась всем телом глубже в постель, боязливо поглядывая на него снизу вверх маленькими глазками. Неожиданно его охватила ненависть к этому существу, такому трусливому, неверному, так легко поддающемуся обольщениям первого встречного.
— Что это ты пишешь? — спросил он.
— Так, заношу кой-какие шаблонности в свою книгу шаблонов, вот и все. Вроде того, какие женственные на вид японцы и как я сегодня первый раз прокатился в кондиционированном кадиллаке. Я никогда еще не ездил в кондиционированной машине и никогда — в кадиллаке. Стало быть, это нечто достойное внимания, правильно?
Тим не знал, поддразнивает его брат или говорит серьезно.
Майкл похлопал рукой по кровати.
— Садись-ка сюда.
Тим покачал головой.
— Нет. Пойду лучше постараюсь снова уснуть. — Во внезапном приливе тоски и отчаяния он подумал про руки, протянутые к нему с недосягаемого, окаймленного пальмами берега. — Это я просто так, — пробормотал он. — Из-за собаки. Это самое… волновался.
— Тим, милый, ты слишком много волнуешься. Какой смысл волноваться! От этого никогда еще никому не было пользы.
— Как пели солдаты, когда шли в окопы умирать.
— Садись. Прошу тебя! Давай потолкуем.
Но Тим, толстоногий, квадратный, несчастный, уже отступал по скрипящим под ним половицам к двери, к темному коридору за нею.
В эти первые дни совместная жизнь протекала у братьев большей частью в добром согласии, которое помогало Тиму временами надолго забывать, что Лора и дети далеко и нельзя определенно сказать, когда они вернутся, и вернутся ли вообще, что Рози обречена, и Лора, вероятно, уже знает это, как знает он, хоть они и не признавались в том друг другу. Но время от времени, нарушая это согласие, кто-то, порой под самым ухом, порой в такой дали, что Тиму приходилось напрягать слух, с лязгом и скрежетом скреб осколками стекла по стеклу.
Читать дальше