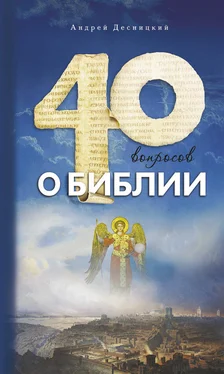Впрочем, и без каннибализма в таких племенах случаются чудовищные вещи. Мне лично доводилось беседовать с человеком, проведшим 20 лет в Папуа– Новой Гвинее. Он рассказывал, что там процветал «культ карго» (от англ, cargo «груз»). Папуасы видели в материальных предметах, привезенных белыми людьми, высшую ценность и понимали проповедь о Христе сквозь призму этого культа. Услышав, к примеру, что последовавший за Христом получит в будущей жизни в сто раз больше, чем он отдал в этой, одно племя выбрало добровольца, распяло его на кресте (!), а в могилу положило инструменты, одежду и прочие припасы, чтобы, когда распятый воскреснет, получить вместо одного топора сразу сотню.
Нет никаких сомнений, что если бы не долгие века «подготовки к Евангелию», как называли этот процесс раннехристианские писатели, никакого другого отношения к проповеди Христа нельзя было бы и ожидать. Конечно, в эту подготовку входила и проповедь языческих мудрецов: философов, поэтов и законодателей, внушавших своим современникам представления о добре, справедливости и милосердии, но основную роль в ней играл всё же Ветхий Завет. В книге Бытия мы встречаем удивительный образ: Иакову снится лестница, по которой Ангелы сходили с неба на землю и поднимались обратно (Быт 28:12). В каком-то смысле Ветхий Завет – та самая лестница, по которой еще до воплощения Христа вестники Божией воли сходили к людям, чтобы те могли оторвать свой взор от земли, потянуться к чему-то высшему.
Мы, в конце концов, просто не поймем в Новом Завете почти ничего, если не обратимся к Ветхому. Главное его событие – крестная жертва Христа. Но что такое жертва? Зачем она нужна? Кто и по какому поводу ее приносит? Всё это можно понять только из Ветхого Завета (подробнее об этом пойдет речь в 21-й и 22-й главах). Он и в самом деле стал лестницей, по которой человечество (прежде всего избранный народ, Израиль) восходило на ту ступень, на которой только и можно было осмыслить Евангельскую весть. И главную роль в этом играл Закон.
«Милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются» – такие слова мы читаем в Псалтири (Пс 84:11). Это отражение самой сути Ветхого Завета. С древнейших времен его толкователи подчеркивали, что в нем сочетаются два начала: милосердие и справедливость. Они необходимо дополняют друг друга: милосердие без справедливости вырождается в попустительство злу, а справедливость без милосердия – в беспощадную мстительность.
Поэтому Ветхий Завет сначала утверждает Закон, то есть определенные правила поведения и наказание за их нарушение, но провозглашает и милосердие к грешнику, этот Закон нарушающему. Еще в ветхозаветные времена евреи излагали суть Закона предельно кратко: «Люби Бога и своего ближнего, а всё остальное – только комментарий». Действительно, одна часть Закона подробно расписывала правила богослужения, а другая – излагала законы, которых люди должны были придерживаться в отношениях друг с другом.
Сами по себе эти правила могут показаться нам архаичными и мелочными, но в ту эпоху так никому не казалось. Когда Библию начинали переводить на язык одного африканского племени, его представителей, уже принявших христианство, спросили, с чего начать. Конечно, ожидался ответ «с Евангелия» или, по крайней мере, «с Бытия», но новообращенные заинтересовались в первую очередь Левитом – скучнейшей, с нашей точки зрения, книгой, где перечислялись всевозможные обрядовые установления. Племя привыкло жить в мире, где религиозные предписания (всевозможные табу) играют огромную роль, и новая вера означала для них прежде всего новую систему табу.
Ветхозаветные правила были вовсе не бессмысленны. Например, Господь повелел израильтянам совершать обрезание как знак их принадлежности Богу, знак завета, заключенного между Ним и Его народом. И только когда израильтяне привыкли к этому знаку, стали пренебрежительно называть своих соседей «необрезанными», стали возможны слова пророка: «Вот, приходят дни, говорит Господь, когда Я посещу всех обрезанных и необрезанных: Египет и Иудею, и Едома и сыновей Аммоновых, и Моава и всех стригущих волосы на висках, обитающих в пустыне; ибо все эти народы необрезаны, а весь дом Израилев с необрезанным сердцем» (Иер 9:25–26) – именно на это место сошлется диакон Стефан (Деян 7:51). Что значит «обрезанное сердце»? Конечно, не о кардиохирургии идет речь, а о том, чтобы человек посвятил Богу не часть своего тела, но все мысли и чувства.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу