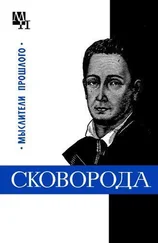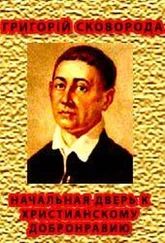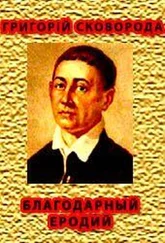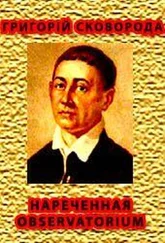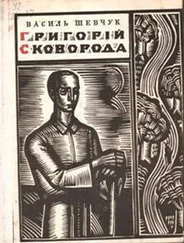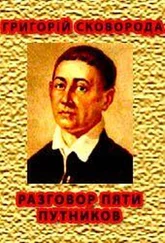Суть этой мысли, идущей еще от Филона и Климента Александрийского, заключается вот в чем: Бог объявил себя в (1) природе, (2) человеке и (3) Священном Писании, – то есть природа, человеческое сердце и Библия являются тремя «книгами-мирами», читая которые человек способен познать сущность вещей.
Куда ни брось взгляд, вселенная гармонична и прекрасна – длань Бога Творца заметна в каждой песчинке, былинке, букашке… Тот, кто не видит этой Божьей длани, а говорит, что все на свете возникло будто бы само собой, вследствие случайного сочетания атомов, – просто безумец. Ведь это то же самое, что и, подкинув вверх груду отдельных букв, надеяться, что они упадут на землю текстом «Илиады» Гомера. Точно так же и сердце человека. Зачем искать Бога неизвестно где, когда он в каждом из нас? Сковорода любил повторять слова Евангелия от святого Иоанна: «…но стоит среди вас Некто, Которого вы не знаете». И наконец – «символический мир Библии» – книги, которая является «альфой» и «омегой», началом и концом всего учения Сковороды.
Библия – это книга книг. Вспомним, например, как прославленный киевский ритор XVII столетия Антоний Радивиловский говорил, что Библия – это та единственная книга, которую Господь взял со своей небесной библиотеки и собственноручно отдал людям, чтобы они знали, что им делать в этом мире. Но Сковорода мыслит куда сложнее. Для него Библия – не больше и не меньше, как сам христианский Бог. Вспомним начало Евангелия от святого Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него на́чало быть и без Него ничто не на́чало быть, что на́чало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Значит, Бог являет свое естество сначала в слове и через слово же ведет все сотворенное Им назад к самому себе. А если это так, размышляет Сковорода, то между морфологией бытия и морфологией Божьего слова существуют какие-то фундаментальные параллели, и когда ты постигнешь смысл Священного Писания, ты одновременно постигнешь природу всех вещей. Итак, способ мышления нашего философа, как писала известная немецкая славистка Элизабет фон Эрдманн, основывается на «устойчивом трансфере между текстом и жизнью. Текст [Библии] и правила его понимания превращаются в модель жизни и мира, а жизнь и мир постоянно перетекают в этот текст». Именно поэтому все творчество Сковороды – это один большой комментарий к Священному Писанию, попытка разгадать тайный смысл библейских образов-символов. Отсюда же и бесчисленное число цитат, парафраз, аллюзий и реминисценций из Священного Писания, которыми пестрят страницы произведений Сковороды. Нередко Сковорода превращает Библию в едва ли не единственную материю мышления, то есть начинает «думать Библией». Читатель, не привыкший к такой манере философствования, будет просто в отчаянии. Недаром неокантианец Густав Шпет писал когда-то, что Сковорода имеет привычку до изнеможения засыпать глаза своего читателя «библейским песком».
И действительно, только в двух диалогах, написанных Сковородой в Гужвинском лесу, – «Наркисс» и «Асхань», имеется почти полторы тысячи «библейских песчинок», то есть в среднем по четырнадцать на одну страницу современной печати. А в целом в произведениях Сковороды их около семи тысяч. Практически все они взяты из так называемой Елизаветинской, или Синодальной, Библии, печатавшейся в 1751-м и 1758 годах. Лишь несколько раз философ пробовал переводить Библию сам, как, например, в диалоге «Беседа, нареченная двое», где он приводит собственную версию одного стиха из Первого послания святого апостола Павла к солунянам: «Все испытывайте, хорошего держитесь». Очевидно, синодальный перевод этого стиха («Вся же искушающе, добрая держите») чем-то не устроил Сковороду. Из этого следует, что «символический мир» Сковороды – это прежде всего церковнославянская Библия. Именно ее философ сделал «ключом понимания» реальности. Конечно же, он прекрасно знал и латинскую Библию – Вульгату. Например, в диалоге «Потоп змиин» Душа, имея в виду фразу из Книги Исход «столпом облачным», спрашивает: «Для чего же в римской Библии читают 'in columna nubis', сиречь «в столпе облачном», а не читают 'in turri nubis'?» А Дух отвечает на это: «Преткнулся толковник». Но в любом случае, к Вульгате Сковорода обращался редко. То же самое касается и греческой Библии – Септуагинты, а в еще большей степени – упоминавшейся иногда «еврейской Библии». Когда-то давно, а именно в 1817 году, Густав Гесс де Кальве в своих воспоминаниях о Сковороде писал, что философ всегда носил в своей дорожной сумке «еврейскую Библию». Затем эту легенду повторяли и другие, а еще чаще говорили, что Сковорода носил с собой Библию славянскую. На самом же деле ничего такого не было. Имеющиеся в произведениях Сковороды пояснения еврейских слов и фраз могли быть взяты или из специального приложения к той же Елизаветинской Библии, или из словарей (философ пользовался ими даже во время своих путешествий степями Слобожанщины). Не носил он, конечно же, и Елизаветинской Библии, которую цитировал тысячи раз, – слишком уж тяжелым был этот фолиант, чтобы быть спутником в далеких странствиях. Эту книгу он мог читать, когда останавливался в монастырях, у знакомых священников и еще где-либо. Но вполне очевидно, что, выстраивая свои любимые «симфонические» вереницы библейских фраз, которые, как когда-то писал Измаил Срезневский, такие непонятные, но при этом такие прекрасные, когда их постигнешь, Сковорода полагался на собственную память. Не случайно почти половина приведенных им цитат из Библии в той или иной степени не точны, а то и просто пересказаны. Размышляя о природе вещей, философ обращался почти ко всем книгам библейского канона, но чаще всего – к псалмам Давида. Псалмы, которые он хорошо знал еще с детства, он цитирует примерно тысячу триста раз. Поэтому, когда Арсений Тарковский назвал Сковороду «государем Псалтыри», он не погрешил против истины. Да и вообще, тексты Ветхого Завета упоминаются в произведениях философа гораздо чаще, чем новозаветные. Такую особенность «сковородиновской Библии», наверное, можно объяснить прежде всего символической манерой мышления и письма нашего философа – Ветхий Завет, ясное дело, куда более предрасположен к символическому истолкованию, нежели евангельская история…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
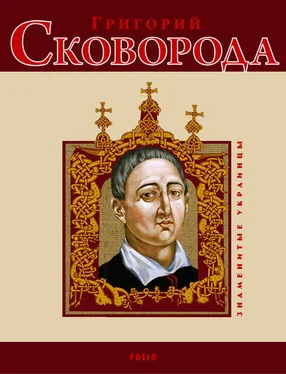
![Григорий Сковорода - Наставления бродячего философа [Полное собрание текстов]](/books/27633/grigorij-skovoroda-nastavleniya-brodyachego-filosofa-thumb.webp)