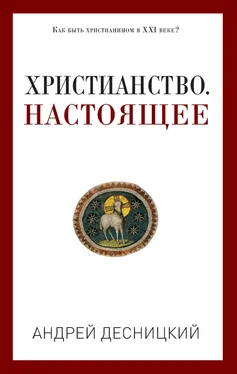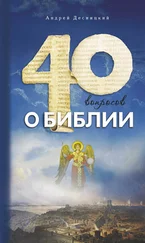Но пожалуй, можно сказать, что идея собора, проведенного по образу и подобию Вселенских соборов первых веков, умерла задолго до того, как делегации поместных церквей стали отказываться от участия. Во-первых, выбран был принцип: на соборе будут представлены поместные церкви, каждая со своей консолидированной и заранее определенной позицией. Это разительно отличается от принципа проведения Вселенских, да и любых древних соборов, на которых были представлены отдельные епархии, высказывались разные мнения и велись горячие споры. Здесь же предлагалось в торжественной обстановке зафиксировать пресловутый консенсус по ряду частных вопросов, сложившийся помимо собора, но зачем тогда сам собор?
И в результате соборные документы страдают крайней расплывчатостью формулировок: древние каноны важны, но часто не соблюдаются, мы это знаем и оставляем практические решения на усмотрение конкретных церквей и священников. Вот, к примеру: «Оставляется на рассуждение Поместных Православных Церквей определять меру человеколюбивой икономии и снисхождения для испытывающих затруднения в соблюдении действующих постановлений о посте, смягчая в этих особых случаях „тяготу“ священных постов в рамках вышесказанного, ни в коей мере не умаляя священного установления поста». И что, собственно, добавляет такой документ к сложившейся теории и практике?
Для сравнения: в шестидесятые годы прошлого века, когда православные всерьез озаботились подготовкой к такому собору, католики провели Второй Ватиканский собор, на котором «осовременили» многие древние практики. Можно спорить о том, правильно они сделали или нет, но им это во всяком случае удалось – в первую очередь потому, что у них есть единый центр в Ватикане, который может принять на себя окончательную ответственность за спорные решения. Православным, осуждающим папизм, оставалось решать, хотят ли они видеть подобие всеправославного папы в Константинополе или лучше каждой поместной церкви (или хотя бы некоторым) иметь своего всевластного предстоятеля, непогрешимого по всем вопросам в режиме 7/24.
Мы, православные, привычно повторяем, что от тех же католиков нас отделяют введенные у них догматы о непогрешимости папы ex cathedra , о непорочном зачатии Богородицы, добавление Filioque к Символу веры и проч. Совокупность тех, кто принимает именно православную версию догматов и вероисповедных текстов и состоит друг с другом в евхаристическом общении (может причащаться от одной чаши), принято называть «мировым православием».
Но едино ли это православие внутри себя? Для кого-то мы, православные (а еще точнее – русские православные) обладаем всей полнотой Истины, нам не с кем и не о чем договариваться, а только обличать врагов от имени единственного верного учения. Не обходится, конечно, и без внутренних врагов, которые мешают его окончательной победе, притворяясь православными только для виду. Словом, молодая советская республика… простите, тысячелетняя поместная церковь в кольце фронтов. Похоже, именно такая риторика востребована сейчас и в Кремле, и в значительной части нашего общества, она кристально ясна и самодостаточна. Но она начисто исключает возможность какого бы то ни было диалога даже с другими поместными церквами.
Итак, глядя не на сферическое мировое православие в вакууме, а на ту реальность, которая у нас есть, мы сразу видим, что его предстоятелям крайне трудно договориться друг с другом даже по протокольным вопросам. А если спуститься вниз, на уровень простых людей, легко обнаружить, что они могут придерживаться каких угодно воззрений и практик, называя себя православными. Классический пример – православные коммунисты, неукоснительно записывающие в свои ряды самого Иисуса Христа (Г. Зюганов заявил на Пасху 2016 года, что Христос непременно прошел бы в рядах первомайской демонстрации, «если бы был жив»). При этом православные коммунисты, несомненно, самым решительным образом отвергают и папу, и Filioque . Значит ли это, что мы с ними единоверцы?
Думаю, пора признать простой факт: евхаристическое единство и даже единство вероисповедных формулировок есть важный формальный признак, но не более того. Оно не означает автоматического единства в самых сущностных вопросах. Те, для кого православие прежде всего встреча со Христом, и те, для кого оно – национальная религия «русского мира», могут принадлежать к одному приходу, но их вера не одинакова. Чем договориться друг с другом, им будет проще договориться со своими единомышленниками в иных конфессиях (те и те есть повсюду), причем для этого не обязательно менять свою конфессиональную принадлежность.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу